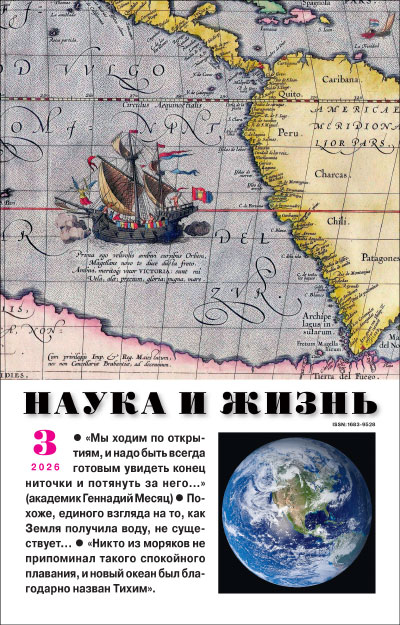ПАДЕНИЕ МОНАРХИИ В РОССИИ: ЗАГОВОРЫ И РЕВОЛЮЦИЯ
ЧАСТЬ III. ХРОНИКА БЕССОННЫХ НОЧЕЙ
Охранять тебя от бед
Мне теперь резону нет.
Ты за собственную подлость
Сам должон держать ответ!
Л. Филатов. Про Федота-стрельца, удалого молодца
ОДИССЕЯ ПОЛКОВНИКА КУТЕПОВА
Когда в пятом часу утра 28 февраля литерные поезда “А” (царский) и “Б” (свитский) покидали Могилёв, Николай II уже знал, что большинство частей петроградского гарнизона изменили присяге и что мятежники заняли Мариинский дворец — резиденцию Совета министров. А в Таврическом дворце, коммунальной обители Думы и Совета депутатов, Николая Николаевича Суханова утром поразила сцена: два солдата деловито вспарывали штыками царский портрет кисти Репина, другие, стоя рядом, давали советы. “ Перелом совершился с какой-то чудесной легкостью. Не надо было лучших признаков окончательной гнили царизма и его невозвратной гибели”.
Николай и Александра пережили свою эпоху. Добиваясь по сути того же, что и приснопамятный Иван Грозный — полноты власти, — они всем опостылели. В стихийном бунте соединились патриоты, видевшие в царской чете помеху войне до победного конца, и пораженцы, желавшие мира любой ценой. И трехсотлетняя династия рухнула как карточный домик.
Забастовки, митинги и демонстрации перекинулись на Москву и другие города. В Петрограде последние упорствующие части были вынуждены под угрозой артобстрела примкнуть к революции. Выпущенные на волю уголовники громили магазины, склады, квартиры. Но на глазах рождались ростки нового порядка: жители организовывали питание для солдат, из добровольцев создавали милицию, возникали домовые комитеты и всякие виды взаимопомощи. Суханов приписывает бурный всплеск народной инициативы исключительно пробуждению “от вековой спячки в оковах царизма”. На самом деле Россия проснулась от спячки на полвека раньше. Начиная с реформ Александра II через земства, кооперативы, профсоюзы, научно-просветительские общества у части населения к 1917 году выработалась устойчивая привычка к самоуправлению. Именно в этом лежали истоки “чуда”, в короткий период всколыхнувшего страну — между свержением самодержавия и установлением большевистской диктатуры.
История не знает сослагательного наклонения... Конечно, история — это прошлое и, следовательно, не подлежит изменению. Однако в каждый отдельный момент ее развитие может пойти другим путем. Потому так просто объяснять случившееся и невозможно предвидеть будущее.
Часто говорят, что революции побеждают из-за отсутствия “Наполеона” — решительного, хладнокровного военачальника. Как минимум один такой человек находился в Петрограде 28 февраля: это полковник Преображенского полка А. П. Кутепов — известность он приобрел позже, в ходе Гражданской войны. Зная Кутепова как человека жесткого, даже жестокого, командующий округом генерал Хабалов поставил его во главе карательной экспедиции и определил задачу: восстановить порядок среди воинских частей. Собрав шесть рот и полтора эскадрона с пятнадцатью пулеметами, Кутепов от Зимнего дворца двинулся по запруженному Невскому.
Повернув с Невского на Литейный, Кутепов обнаружил, что проспект и прилегающие улицы забиты растерянными и напуганными солдатами. Его подняли на руки, и он объявил, что присоединившиеся к нему избегнут расстрела. Затем попытался их построить, но попал под обстрел. Солдаты бросились врассыпную. Среди его людей были раненые, многие жаловались на голод. Кутепов на свои деньги закупил хлеб и колбасу. Заняв часть особняка Мусина-Пушкина (в другой части находился лазарет), он безуспешно пытался связаться со штабом, который к тому времени по требованию великого князя Михаила Александровича покинул Зимний дворец и вернулся в Адмиралтейство. Подкрепления, посланные Хабаловым, растворились в пути. Когда стало темнеть, Кутепов вышел на улицу: “Весь Литейный был заполнен толпой, которая, хлынув из всех переулков, с криком тушила и разбивала фонари. Среди криков я слышал свою фамилию, сопровождаемую площадной бранью. Большая часть моего отряда смешалась с толпой, и я понял, что мой отряд больше сопротивляться не может. Я вошел в дом и, приказав закрыть двери, отдал распоряжение накормить людей заготовленными для них ситным хлебом и колбасой”. Персонал Красного Креста попросил Кутепова покинуть особняк, чтобы сохранить неприкосновенность лазарета. Он вывел остатки солдат на улицу, и в обстановке столпотворения они растаяли в толпе.
“Так закончилась единственная попытка петроградского военного начальства очистить часть центра столицы”, — констатирует историк Г. М. Катков.
РЕВОЛЮЦИОННАЯ СУМАТОХА
Таврический дворец имел уже вполне революционный вид: за столиками между обшарпанными колоннами барышни торговали “литературой”, всюду висели бумажки с названиями новых учреждений, звучавшими дико для тогдашнего слуха, паркет был покрыт толстым слоем грязи, стены засалены, меблировка испорчена. “Все, что можно испакостить, испакощено — и это символ, — мрачно замечает Шульгин... — Вопли ораторов, зверское "ура", отвратительная "Марсельеза". И при этом еще бедствие — депутации”. Все новые воинские части требовали Родзянко, и он “говорил своим запорожским басом колокольные речи, кричал о родине, о том, что "не позволим врагу, проклятому немцу, погубить нашу матушку-Русь", и вызывал у растроганных (на минуту) людей громовое "ура"”.
А потом выходил представитель Совета депутатов и с ехидной усмешкой заводил речь о том, что у господина Родзянко, мол, есть причины защищать русскую землю: у него этой самой земли много в Екатеринославской губернии. Родзянко ужасно расстраивался и злился: “Мерзавцы! Мы жизнь сыновей своих отдаем, а это хамье думает, что земли пожалеем. Да будь она проклята, эта земля, на что она мне, если России не будет? Сволочь подлая... Хоть рубашку снимите, но Россию спасите”.
А дело было весьма и весьма непростым: если бы крестьянам в солдатской форме самим пришлось выбирать между землей и жизнью сыновей, большинство выбрали бы землю. Земля — это главная в их жизни вековая мечта. А сыновья... Конечно, жалко, сил нет, как жалко, своя ведь кровь! Только сыновей можно и новых народить, дело нехитрое, а вот землю не родишь, она, матушка, сама все рожает... Понятие “Россия” в отрыве от земли для крестьян не существовало. Истории они не знали, имена Олега Вещего, Дмитрия Донского и даже Суворова ничего им не говорили. Поэтому они не верили Родзянке.
И действительно, положение у председателя Думы сложилось неопределенное. Николай II телеграммой поручил ему возглавить кабинет и самому назначить министров (кроме двора, иностранных дел, военного и морского). Для встречи с царем он должен был выехать на станцию Дно, но при этом не мог противиться и Милюкову, который настаивал на формировании Временного правительства, никак от царя не зависящего.
Днем по телеграфу какой-то сотник Греков, назвавшийся “комендантом станции Петроград” (позже его тщетно пытались отыскать), потребовал, чтобы литеры вместо Царского Села шли непосредственно в Петроград. Но литеры не подчинились. А в Могилёве начальник царского штаба Алексеев продолжал издавать приказы о выделении фронтовых частей в распоряжение двигавшегося к Петрограду генерала Иванова. Но в полдень он же (со ссылкой на “частные сведения”) оповестил главнокомандующих фронтами, что в Петрограде “наступило полное спокойствие”, Временное правительство подтвердило необходимость монархического начала и все ожидают приезда Его Величества, чтобы изложить ему желания народа. Если так, комментирует Алексеев эти неизвестно откуда взявшиеся сведения, “то изменяются способы наших действий, переговоры приведут к умиротворению”, что позволит “избежать позорной междоусобицы”.
Не представляя роль Совета депутатов, не зная про убийства офицеров, генералы изо всех сил старались обойтись без кровопролития.
Совет депутатов пополнялся все новыми избранниками — число их перевалило за тысячу, заседания превратились в сплошной митинг. Принимать практические решения это сборище было неспособно, зато здесь во множестве оформлялись лозунги и призывы, отвечающие настроению масс. Исполком Совета действовал сам по себе, но и его заседания то и дело прерывались бесконечными “внеочередными заявлениями”, “экстренными сообщениями” и “делами исключительной важности”, обычно не стоящими выеденного яйца. Керенский мелькал повсюду. Чхеидзе то и дело вызывали в Думу, в Совет или на нескончаемый митинг, бушующий возле дворца: “И усталый старик, сонный грузин, с покорным видом снова натягивал шапку и исчезал из Исполнительного комитета” (Суханов).
Во дворец тащили деятелей прежнего режима, а руководители Думы и Совета санкционировали их аресты — надо же сохранять хотя бы видимость контроля над событиями. “Павильон министров” заполнили десятки известных людей. Между штыками Шульгин разглядел Протопопова — тщедушную фигурку с затурканным, съежившимся лицом.
— Не сметь прикасаться к этому человеку!
Это Керенский, бледный, “с невероятными глазами”, поднятой рукой разрезает толпу, а другой указывает на “этого человека”. Казалось, он поведет его на казнь. Ошарашенная толпа расступается, и Керенский проносится, как пылающий факел революционного правосудия, волоча обмякшего Протопопова. Но вот дверь “павильона министров” закрывается, Керенский бухается в кресло и совсем другим, обыкновенным голосом говорит:
— Садитесь, Александр Дмитриевич...
Таким же образом он спасает от расправы Сухомлинова. Шульгин, отнюдь не поклонник Керенского, воздает ему должное: “Многие ли могут похвалиться, что они в известную минуту не закрывали глаз и не умыли рук?”
Вечером измученные дневной суматохой обитатели дворца засыпают прямо на рабочих местах. Шульгин в полутьме видит родзянковский кабинет и несколько фигур новых “правителей России”, свалившихся от усталости в неудобных позах.
ОФИЦЕРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ
Родзянко сам толком не знает, зачем едет к царю — получить напутствие или арестовать его. От выбора его избавили железнодорожники, отказавшиеся выделить поезд без санкции Совета депутатов. Исполком Совета потребовал, чтобы с Родзянкой отправились Чхеидзе и батальон “революционных солдат”. Керенский закатил товарищам истерику: “Вы сыграли на руку монархии, Романовым!” После этого большинством голосов против троих (среди них и Суханов) поезд решено было дать. Но шел уже второй час дня, и царь, не дождавшись Родзянки, покинул Дно. В среду 1 марта, около 4 часов утра, пассажиры литеров узнали, что станции Тосно и Любань в руках революционеров. Тогда двинулись на Псков, под защиту главнокомандующего Северным фронтом Н. В. Рузского.
Утренние газеты сулили победы после “перемены шофера”. Солдаты в Петрограде становились все более неуправляемыми. Боясь разоружения и отправки на фронт, они пытались помешать этому самым простым способом — избиением офицеров. В Думу неслись мольбы о защите: Милюков ездил по полкам, говорил речи, почти сорвал голос.
В эти дни любое, даже небольшое, но решительное противодействие могло повернуть события на 180 градусов — так считал Шульгин. “"Революционный народ" думал только об одном — как бы не идти на фронт... Сражаться бы он не стал”. Суханов, прямо противоположно относясь к революции, в этом согласен с Шульгиным. Однако защищать царскую чету не помышляли даже самые “реакционные” офицеры. Около двух тысяч их, опасаясь расправы, собрались 1 марта в зале Армии и Флота, на углу Литейного и Кирочной улицы, и приняли резолюцию: “Идя рука об руку с народом... признать власть Исполнительного комитета Государственной Думы впредь до созыва Учредительного собрания”.
“Если бы можно было вооружить собравшихся в зале Армии и Флота офицеров, а главное, если бы можно было на них рассчитывать, то есть если бы это были люди, пережившие все то, что они пережили впоследствии, скажем, корниловского закала...” Это замечание Шульгина имеет очень глубокий смысл. При анализе исторических событий учитывать надо не только то, какие люди, какие слои населения принимали в них участие, но и настроение, жизненный опыт участников к описываемому моменту. (К примеру, возникни ГКЧП в 1989 году, на защиту Ельцина встали бы сотни тысяч, возможно, и миллионы москвичей. В августе 1991 года поддержка была уже гораздо меньшей, а в сентябре 1993 года большинство либо равнодушно взирало на происходящее, либо тосковало по прежнему режиму. Да и сами путчисты в разное время действовали бы по-разному.)
К весне 1917 года даже члены правящей династии отмежевывались от царя. Милюкову принесли заявление четырех великих князей, соглашавшихся на ответственное министерство. “Интересный исторический документ”, — с иронией заметил он, убирая бумажку в портфель. А куда подевалась молодая опора самодержавия — все эти “потешные”, “сокольские деятели” и прочие “борцы с отнародованием”, взращиваемые как раз для таких ситуаций? Многолетние усилия режима дали нулевой результат: в момент кризиса отроки, клявшиеся “ исполнять свой долг перед Богом, Родиной и Государем”, ровно никак себя не проявили.
Исполком Совета депутатов по-своему пытался убедить солдат, что на фронт их никто не отправит. Появился “Приказ № 1”, составленный Н. Д. Соколовым (по характеристике Шульгина, “человеком очень левым и очень глупым”) и утвержденный Исполкомом. “Приказ № 1” предписывал создавать полковые солдатские комитеты и передавал в их распоряжение все оружие; вне строя он уравнивал солдат с командиром и отменял отдание воинской чести и обращение “благородие”, “превосходительство” к вышестоящим. Однако “лекарство” это оказалось во многом хуже “болезни”: адресованный Петроградскому гарнизону приказ быстро разлетелся по всем фронтам и вызвал обвал дисциплины.
ОБРАЗОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Итак, ненавистное самодержавие практически рухнуло. Но в политической элите мало кто испытывал энтузиазм по этому поводу. “Мы были рождены и воспитаны, чтобы под крылышком власти хвалить ее или порицать, — с горечью отмечает Шульгин. — Мы способны были, в крайнем случае, безболезненно пересесть с депутатских кресел на министерские скамьи... под условием, чтобы императорский караул охранял нас. Но перед возможным падением власти, перед бездонной пропастью этого обвала — у нас кружилась голова и немело сердце”.
Шульгин видел, что в политическое пространство ворвалось нечто, находящееся за пределами цивилизации: “Эти — из другого царства, из другого века... Эти — это страшное нашествие неоварваров, столько раз предчувствуемое и наконец сбывшееся... Это — скифы. Правда, они с атрибутами XX века — с пулеметами, с дикорычащими автомобилями...”
Тогда этот процесс только начинался. Сегодня в телерепортажах из Азии и Африки мы во множестве видим подобных “неоварваров” с самым современным оружием.
В правой стороне Таврического дворца, куда было оттеснено руководство Думы, сохранялась некоторая видимость порядка: швейцары в ливреях, чистенькие юнкера в переходах коридоров, люди либерального вида в визитках, в бобровых воротниках. Время от времени появлялся Керенский.
— А где Михаил Владимирович (Родзянко. — прим. а. а.)?
— На улице.
— Кричит “ура”? Довольно кричать “ура”, надо делом заняться...
“Дело”, то есть формирование правительства, Шульгин описывает не менее красочно: “Между бесконечными разговорами с тысячью людей, хватающих его за рукава, принятием депутаций, речами на нескончаемых митингах в Екатерининском зале; сумасшедшей ездой по полкам; обсуждением прямопроводных телеграмм из Ставки; грызней с возрастающей наглостью “исполкома”, — Милюков, присевший на минутку где-то на уголке стола, — писал список министров...
Так, на кончике стола, в этом диком водовороте полусумасшедших людей, родился этот список из головы Милюкова, причем и голову эту пришлось сжимать обеими руками, чтобы она хоть что-нибудь могла сообразить. Историки в будущем, да и сам Милюков, вероятно, изобразят это совершенно не так: изобразят как плод глубочайших соображений и результат соотношения реальных сил. Я же рассказываю, как было”.
Но “результат соотношения реальных сил” все-таки существовал. Уже несколько лет составлялись и обсуждались списки предполагаемого “правительства доверия” или “ответственного кабинета”, где в разных сочетаниях фигурировали одни и те же люди. Теперь из примерно трех десятков человек необходимо отобрать дюжину. На пост главы кабинета было два реальных кандидата — Родзянко и князь Г. Е. Львов. Монархист Родзянко категорически не устраивал левых. Помимо того, он был чересчур громогласен, прямолинеен и, выражаясь мягко, простоват — топает напролом, рубит сплеча. Львов оказался более приемлемым: толстовец, проявил себя в Земгоре прекрасным организатором, чрезвычайно популярен в обществе и в армии... Милюков, лично Львова почти не знавший, потратил 24 часа, чтобы склонить коллег на его сторону. Львову же по совместительству отдали и МВД.
Пост министра иностранных дел при любом раскладе доставался Милюкову, который, по признанию его оппонента Шульгина, “был головой выше других и умом и характером”. Гучков, тесно связанный с армией, естественным образом совместил посты военного и морского министров. С большинством других министерств проблем также не возникло. Но вот министр финансов, по выражению Шульгина, “не давался, как клад”. Основным кандидатом на этот пост считался Шингарев — главный оратор по финансовым вопросам, оппонент Коковцова и последующих министров финансов. Но ему отдали министерство земледелия, крайне важное ввиду остроты продовольственного вопроса. Другой кандидат, бессменный председатель бюджетной комиссии Думы, октябрист М. М. Алексеенко, внезапно умер (1 марта его хоронили).
“И вдруг, — удивляется Шульгин, — каким-то образом в список вскочил Терещенко... Михаил Иванович Терещенко был очень мил, получил европейское образование, великолепно “лидировал” автомобиль и вообще производил впечатление денди гораздо более, чем присяжные аристократы. Но почему, с какой благодати он должен был стать министром финансов?”
Милюков позже предположил, что источник появления Терещенко “был тот же самый, из которого был навязан Керенский, откуда исходил республиканизм нашего Некрасова, откуда вышел и неожиданный радикализм прогрессистов Коновалова и Ефремова. Об этом источнике я узнал гораздо позднее событий”. В этом отрывке из мемуаров Милюкова современники сразу же угадали намек на масонов.
Упомянутый Некрасов, ставший министром путей сообщения, утверждал, что масонов в первом составе Временного правительства было трое: он сам, Коновалов (торговля и промышленность) и Керенский (юстиция). Однако некоторые мемуаристы и исследователи к списку добавляют Терещенко, Шингарева и главу правительства, князя Львова. Частично разноголосица объясняется тем, что в России имелись два разных масонства. Существовали ложи, основанные с соблюдением всех правил (регулярные). И было оппозиционное самодержавию политическое движение, члены которого называли себя масонами, давали клятву молчания и использовали некоторые масонские термины, но ритуал не соблюдали и даже принимали в свои ряды женщин.
Левый кадет Некрасов, ярый оппонент Милюкова, говорил именно о политическом масонстве, к которому якобы принадлежала упомянутая тройка. Шингарев же был членом регулярной ложи “Полярная звезда”. Масонство Г. Е. Львова, скорее всего, выдумка (Милюкова правые тоже считали масоном), князь был человеком православным и позже сделался отшельником в Оптиной пустыни. Что до Терещенко, то слухи о его масонстве едва ли не целиком проистекают из упомянутого предположения Милюкова. Как бы то ни было, но еще днем 27 февраля Гучков представил Терещенко Коковцову как будущего министра финансов.
1 марта приехал Г. Е. Львов. Милюков испытал разочарование: “Князь был уклончив и острожен, он реагировал на события в мягких, расплывчатых формах и отделывался общими фразами”. “Ну, как?” — спросил Милюкова на ухо депутат-кадет И. П. Демидов. “Шляпа!” — ответил тот также шепотом.
САМАЯ ДЛИННАЯ НОЧЬ
1 марта в восьмом часу вечера генерал Рузский встречал нежданно нагрянувшие в Псков литерные поезда. К этому времени ему сообщили, что и Москва охвачена восстанием, бунтуют Кронштадт и Балтийский флот. А Алексеев продолжает умолять государя согласиться на ответственное министерство. И вот Рузский, согбенный и седой, медленно и как бы нехотя идет по перрону в резиновых галошах. Потом в ожидании приема у императора он сидит в свитском вагоне, отвалившись в угол дивана, и, саркастически обозревая присутствующих, говорит, что вся политика последних лет — тяжелый сон, клянет “хлыста Распутина”, Щегловитова, Сухомлинова и Протопопова. Шокированные царедворцы спрашивают, что же, по его мнению, теперь делать. “Наверное, сдаваться на милость победителя”, — буркнул главнокомандующий Северным фронтом.
Во время приема у царя Рузский напористо убеждал Николая II согласиться на ответственное министерство. Тот возражал: если он отдает законодателям право назначать министров, то не избавится от чувства ответственности перед Богом за судьбы России — так уж он воспитан. И все же согласие было вырвано. За полчаса до полуночи Рузский отправился вызывать Родзянко к аппарату. В царский вагон он вернулся с проектом манифеста, полученным от Алексеева:
“Стремясь сильнее сплотить все силы народные для скорейшего достижения победы, я признал необходимым призвать ответственное перед представителями народа министерство, возложив образование его на председателя Государственной Думы Родзянко, из лиц, пользующихся доверием всей России”.
Николай спорить не стал. Как ни тяжело далось ему такое решение, оно, видимо, неизбежно, раз на нем настаивают и Рузский и Алексеев, которые обычно ни в чем друг с другом не сходятся. И тут же царь телеграммой приказал генералу Иванову ничего не предпринимать до его возвращения. Эшелонам с выделенными Иванову частями было велено возвращаться на фронт, а его отряд георгиевцев под влиянием агитации разложился. Попытка организовать военную экспедицию против восставшей столицы кончилась пшиком.
В Петрограде около полуночи начались переговоры представителей Временного комитета Думы и Исполкома Совета депутатов по составу и программе правительства. Исполком с момента образования контактировал с Думой в решении неотложных вопросов, прежде всего продовольственного. Это было тем проще сделать, что оба органа соприкасались не только территориально: председатель Исполкома Чхеидзе и его заместители Керенский и Скобелев принадлежали к тому же политическому масонству, что и ряд левых депутатов “прогрессивного блока”. Остро нуждаясь в поддержке Совета депутатов, думские руководители настойчиво зазывали в состав кабинета Чхеидзе и Керенского. Но с точки зрения социалистов, свержение феодально-дворянского режима неизбежно должно было привести к власти буржуазию. Свою задачу они видели в том, чтобы оказывать на правительство давление в интересах пролетариата; прямое же участие в буржуазном кабинете слишком бы тесно привязало их к буржуазии.
Между исполкомовскими масонами произошел раскол: Керенский с его туманно-народническими взглядами рвался в министры юстиции, а марксист Чхеидзе и сам категорически отказывался войти в правительство, и мешал Керенскому. К ночи на 2 марта Керенский был на грани нервного срыва, говорил, что его травят, хотят поссорить с массами.
Рузскому лишь около трех часов ночи удалось вызвать Родзянко к аппарату, помещавшемуся в Главном штабе. Объясняя, почему он не приехал в Дно, Родзянко сослался на две причины: первая — эшелоны с войсками взбунтовались и намерены остановить царские поезда и вторая — “ невозможность оставить разбушевавшиеся народные страсти без личного присутствия, так как до сих пор верят только мне и исполняют только мои приказания”. Признаться, что ему не дали поезда, Родзянко не смог. На известие, что государь поручает ему составить ответственный кабинет, он ответил, что теперь этого уже мало: “Я вынужден был, во избежание кровопролития, всех министров, кроме военного и морского, заключить в Петропавловскую крепость. Очень опасаюсь, что такая же участь постигнет и меня, так как агитация направлена на все, что более умеренно и ограничено в своих требованиях; считаю нужным вас осведомить, что то, что предлагается вами, — недостаточно и династический вопрос поставлен ребром”. Иначе говоря — необходимо отречение Николая.
И все-таки Рузский передает ему царский манифест. Родзянко отвечает: “Вы, Николай Владимирович, истерзали мое сердце... Я сам вишу на волоске, и власть ускользает у меня из рук; анархия достигает таких размеров, что я вынужден был сегодня ночью назначить временное правительство. К сожалению, манифест запоздал... время упущено и возврата нет”. Он заверил Рузского, что армия при новой власти ни в чем не будет нуждаться, так как “после воззвания временного правительства крестьяне и все жители повезут хлеб, снаряды (!) и другие предметы снаряжения”.
Разумеется, Родзянко то и дело противоречил сам себе: “ исполняют только мои приказания”
— и при этом: “я сам вишу на волоске” (последнее было куда ближе к истине). Но он никогда не отличался строгостью логики, а в пятом часу утра вообще трудно ждать от измотанного человека полной адекватности. Рузский, тоже невыспавшийся и больной, не заметил неувязок. Вообще, в эти дни важнейшие решения принимались около полуночи или на рассвете смертельно усталыми, хронически недосыпавшими людьми в состоянии постоянного стресса. Позже, в апреле, Николай II говорил графу П. К. Бенкендорфу, что только теперь начинает немного приходить в себя, а в Могилёве и Пскове находился “как бы в забытьи”.
В Таврическом дворце до утра 2 марта шли переговоры. Оба комитета, думский и советский, хотели удержать народное движение в умеренных рамках, поэтому основной предмет разногласий
— о войне и мире — старательно обходили. Внешне все выглядело мирно, почти по-семейному, но дело двигалось с трудом. Милюков стоял за монархию с царем Алексеем и регентом Михаилом Александровичем. А Чхеидзе и Соколов считали это утопией. Суханов убеждал думцев, что отстоять перед Советом любую договоренность с буржуазией “ труднее трудного вообще ”, а их отказ расстаться с монархией и династией может вовсе сорвать соглашение: “Среди масс с каждым днем и часом развертывается несравненно более широкая программа. Руководители напрягают все силы, чтобы направить движение в определенное русло, сдержать его в рациональных рамках. Но если эти рамки будут установлены неразумно, не будут в соответствии с размахом движения, то стихия сметет их вместе со всеми проектируемыми правительственными комбинациями”.
Думцы категорически противились выборности командиров и добивались, чтобы Исполком ясно высказался против расправ над офицерами. “Я не помню, сколько часов все это продолжалось, — вспоминал Шульгин. — Направо от меня лежал Керенский, прибежавший откуда-то, по-видимому, в состоянии полного изнеможения. Остальные тоже уже совершенно
выдохлись. Один Милюков сидел упрямый и свежий. (“Увы, я тоже не был свежим, — замечает Милюков. — Это была уже третья бессонная ночь, проведенная безвыходно в Таврическом дворце”). С карандашом в руках он продолжал “грызть” совершенно безнадежный документ. Девять десятых его было посвящено тому, какие мерзавцы офицеры, какие они крепостники, приспешники старого режима, гасители свободы, прислужники реакции и помещиков. Однако в трех последних строках было сказано, что все-таки их убивать не следует”.
Шульгин тихо спросил Чхеидзе, неужели тот за выборность офицеров. “Он поднял на меня совершенно усталые глаза, заворочал белками и шепотом же ответил, со своим кавказским акцентом, который придавал странную выразительность тому, что он сказал:
— И вообще все пропало... Чтобы спасти... Чтобы спасти, надо чудо... Может быть, выборное офицерство будет чудо... Может, не будет... Надо пробовать... хуже не будет... Потому что я вам говорю: все пропало”.
Затем Шульгину чудится запах эфира. Вдруг рядом резко, как на пружинах, вскакивает Керенский и “безапелляционно-шекспировским тоном” объявляет товарищам по Исполкому: “Я желал бы поговорить с вами наедине. Идите за мной!”
На пороге он оборачивается:
— Пусть никто не входит в эту комнату!
“Никто и не собирался, — иронически замечает Шульгин. — У него был такой вид, точно он будет их пытать в этой комнате”.
Через четверть часа дверь распахивается, и Керенский, бледный, с горящими глазами торжественно возвещает:
— Представители Исполнительного комитета согласны на уступки!
Впрочем, воззвание против самосудов, написанное Сухановым и Стекловым, так и не было опубликовано: типографские рабочие отказались его печатать.
ПАДЕНИЕ МОНАРХИИ
В представлениях о намечаемых переменах обрисовались два полюса: либо ограничиться отречением Николая II, либо устранить не только Романовых, но и монархию вообще. Республикански настроенные массы рабочих и солдат через своих депутатов в Совете давили на Исполком, Исполком давил на лидеров Думы, а тем ничего не оставалось, как давить на царя.
В пятом часу утра в Думу приехал Гучков. Он был мрачен: только что в автомобиле рядом с ним убили молодого князя Вяземского, убили просто за то, что он офицер. Надо немедленно, ни с кем не советуясь, дать России нового государя — просто поехать к Николаю и привезти наследника. В Псков отправились Гучков и Шульгин.
Телеграфные переговоры между Рузским и Родзянко закончились в восьмом часу утра. Не зная, как реагировать на требования об отречении государя, Рузский связался со Ставкой и попросил Алексеева выяснить мнение других главнокомандующих. В своей телеграмме Алексеев изложил мнение Родзянки, что “династический вопрос поставлен ребром”, а от себя добавил: “Необходимо спасти действующую армию от развала; продолжить до конца борьбу с внешним врагом; спасти независимость России и судьбу династии. Это нужно поставить на первом плане, хотя бы ценой дорогих уступок”. Иными словами, сам он высказался за отречение.
Когда измотанный Рузский прилег на полчаса, генерал-квартирмейстер Лукомский от имени Алексеева потребовал, чтобы он “сейчас же” разбудил государя и доложил о ночном разговоре с Родзянкой. Выбора нет: царская семья в руках мятежных войск, а главное, без отречения “начнется междоусобная война, и Россия погибнет под ударами Германии... Дай бог, чтобы генералу Рузскому удалось убедить государя. В его руках теперь судьба России и царской семьи”.
В четверть одиннадцатого Рузский явился к царю и, “страшно волнуясь в душе”, вручил ленту переговоров с Родзянко. Прочитав ее, Николай сказал: “Если надо, чтобы я отошел в сторону для блага России, я готов на это, но я опасаюсь, что народ этого не поймет: мне не простят старообрядцы, меня обвинят казаки, что я бросил фронт, что я изменил своей клятве в день коронования”. В половине третьего Алексеев сообщил царю мнение главнокомандующих: Брусилов (Юго-Западный фронт), великий князь Николай Николаевич (Кавказский фронт) и Эверт (Западный фронт) высказались за отречение. Сам Рузский в сопровождении начальника штаба Данилова и начальника снабжения Саввича явился к царю умолять его о том же. Николай сказал, что за престол не держится: “Если я помеха счастью России и меня все стоящие ныне во главе общественных сил просят оставить трон и передать его сыну и брату своему, то я готов это сделать, готов даже не только царство, но и жизнь отдать за родину. Я думаю, в этом никто не сомневается из тех, кто меня знает”. Он сообщил, что подписал манифест об отречении в пользу сына, и вручил Рузскому соответствующие телеграммы для Родзянко и Алексеева. Но, поскольку пришло сообщение о скором приезде Гучкова и Шульгина, телеграмму на имя Родзянко Рузский вернул царю, а телеграмму Алексееву задержал у себя.
Видимо, сразу после разговора с генералами Николай переговорил с лейб-хирургом профессором С. П. Федотовым, и тот ясно сказал, что цесаревич болен неизлечимо. (То есть тема гемофилии до такой степени не подлежала обсуждению, что лишь в предельно критической ситуации царь решился на разговор с придворным медиком!). Понимая, что при воцарении
Алексея его, скорее всего, разлучат с родителями, Николай решил отречься и за него в пользу своего брата Михаила Александровича.
А в Петрограде Керенский, которого Исполком не пускал в министры, днем 2 марта обратился непосредственно к Совету с горячей, но сумбурной речью, требуя доверия и поддержки: “Я не могу жить без народа, и в тот момент, когда вы усомнитесь во мне, убейте меня!” Из зала его вынесли на руках под бурные аплодисменты. Исполком “остался с носом”. В три часа дня здесь же, в Таврическом дворце, Милюков объявил о создании Временного правительства и о решении установить в России конституционную монархию при регентстве великого князя Михаила. Чистая публика слушала сочувственно и даже восторженно, но со стороны рабочих и солдат заявление вызвало бурю негодования и выкрики: “Это старая династия!”
В Пскове около восьми часов вечера генерал Дубенский спросил проезжего полковника, как обстоят дела в столице. Тот ответил, что там теперь все хорошо, город успокаивается и народ доволен, так как фунт хлеба стоит 5 копеек, масло 50 копеек. Дубенского поразил столь грубый материализм.
— Что же говорят о государе, всей перемене?
— Да ничего не говорят, надеются, вероятно, что Временное правительство с новым царем Михаилом лучше справится.
Около десяти часов вечера 2 марта 1917 года подошел специальный поезд, и на перрон спустились посланцы Думы, оба в зимних пальто. Первым шел Гучков, наклонив голову и косолапо ступая (он ходил с трудом из-за ранения в англо-бурской войне), за ним, с высоко поднятой головой, Шульгин в котиковой шапочке. Достаточно последовательно, но заметно волнуясь и не глядя в глаза царю, Гучков объяснил положение в Петрограде и причины, по которым отречение представляется единственным выходом. Николай очень спокойно и деловито ответил, что уже принял решение отречься и за себя, и за сына. Чтобы манифест об этом не выглядел вырванным под давлением, он по просьбе Шульгина поставил на нем время — “15 часов”. 14-ю часами были помечены и телеграммы с указами о назначении Николая Николаевича верховным главнокомандующим и о поручении Львову сформировать правительство. У Шульгина вырвалось: “Ах, ваше величество... Если бы вы сделали это раньше, хотя бы до последнего созыва Думы...” “Вы думаете, обошлось бы?” — спросил Николай просто.
“Теперь я этого не думаю, — признает в мемуарах Шульгин. — Было поздно, в особенности после убийства Распутина. Но если бы это было сделано осенью 1915 года, то есть после нашего великого отступления, — может быть, и обошлось бы”.
Дубенский отмечает необычайную пассивность Николая в момент отречения: “Он стал как бы придавлен событиями и словно не отдавал себе отчета в обстановке и как-то безразлично стал относиться к происходившему... Все-таки я поражался, какая у него выдержка. У него одеревенело лицо, он всем кланялся, он протянул мне руку, и я эту руку поцеловал”.
Пока в Пскове шла возня с отречением, думцы и Исполком наконец договорились. Вечером 2 марта появилась согласованная “Декларация Временного правительства о его составе и задачах”, подписанная Родзянко и всеми министрами (кроме отсутствующего Гучкова).
Граждан России оповещали: Временный комитет Думы при содействии столичных войск достиг таких успехов в борьбе с “темными силами”, что это позволило сформировать правительство из лиц, пользующихся доверием страны. Новое правительство обещало немедленную всеобщую амнистию по политическим и религиозным делам, гражданские свободы, отмену вероисповедных и национальных ограничений, замену полиции народной милицией и скорейшие демократические выборы в Учредительное собрание, которое установит форму правления и конституцию страны. Также оно обещало не разоружать и не выводить из Петрограда воинские части, принимавшие участие в революционном движении. Самые важные вопросы — о войне и мире и аграрной реформе — в декларации обходились.
Гучков и Шульгин, вернувшись в Петроград утром 3 марта, уже на Варшавском вокзале объявили собравшимся об отречении Николая в пользу Михаила — и едва смогли ускользнуть от разгневанной толпы. Сразу вслед за тем они приняли участие в утренней встрече руководителей Думы и Временного правительства с великим князем Михаилом на квартире княгини Путятиной.
Михаила, увлекавшегося женщинами и автомобилями, в семействе Романовых считали шалопаем. Брак с дважды разведенной женщиной обострил его отношения с Николаем. Тридцати девяти лет, худощавый, с длинным, почти еще юношеским лицом, Михаил не стремился к власти, его считали слабовольным и недалеким — идеальный конституционный монарх. Брусилов, у которого Михаил командовал корпусом, характеризует его “как человека безусловно честного и чистого сердцем, не причастного ни с какой стороны ни к каким интригам и стремившегося лишь к тому, чтобы жить частным человеком, не пользуясь прерогативами императорской фамилии. Он был храбрый генерал и скромно, трудолюбиво выполнял свое долг”.
Милюков, осипший от митингов и едва не засыпавший стоя, “каркал как ворон” (выражение Шульгина), убеждая Михаила принять престол: “Власть может быть сильной, если опирается на символ, привычный массам. Если вы откажетесь, будет ужас, полная неизвестность, не станет ни России, ни государства”. Гучков, только что лицезревший реакцию масс на воцарение Михаила, все же поддержал Милюкова, но в очень краткой форме. Керенский, напротив, убеждал великого князя, что, приняв престол, он его не спасет: “Резкое недовольство масс направлено против монархии. Именно этот вопрос будет причиной кровавого развала, и это в то время, когда нужно полное единство против внешнего врага. Начнется гражданская война. Умоляю вас, как русский русского, принести эту жертву!”
Почти все присутствующие, включая Родзянко, поддержали Керенского. Великий князь слушал, чуть наклонив голову. Потом удалился к другую комнату, пригласив с собой председателя Думы. Ожидание затянулось. Все нервничали, а Терещенко даже собрался застрелиться. Михаил появился около 12 часов дня. Он дошел до середины комнаты, все столпились вокруг него.
— При этих условиях я не могу принять престола, потому что...
Не договорив, он заплакал.
Милюков был в полном отчаянии. Он решил уйти из правительства, а пока отправился отсыпаться: “Мы с Гучковым вышли вместе — и поехали на одних санях”. Тем временем на квартире Путятиной, в детской, среди кроваток, парт и разбросанных игрушек, юристы составляли формулу отказа от престола. Она носила условный характер: Михаил готов был принять верховную власть, если такова будет воля народа, выраженная Учредительным собранием.
На деле Россия прощалась с трехсотлетней династией Романовых и с наследственной монархией вообще.
...Другое дело — царистская психология: с ней расстаться мы даже не пытались.
Читайте в любое время
Оформить заказ