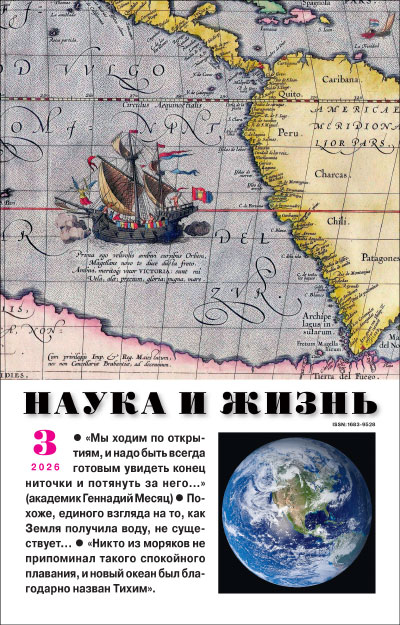Передо мной программа заседаний знаменитого Центра философии и истории науки Бостонского университета (Массачусетс, США) на первое полугодие 2009 года. Все 10 заседаний (30 докладов) посвящены двойному юбилею — двухсотлетию Чарльза Дарвина (1809—1882) и стопятидесятилетию публикации «Происхождения видов» (1859).
Такое внимание к великому англичанину радует, но удивляет одно: почему в программе ни словом не упомянут Жан-Батист Ламарк (1744—1829)? Неужели его «Философия зоологии», вышедшая в 1809 году, не заслуживает у философов науки даже упоминания в год её двухсотлетия? Ведь учёный мир узнал об эволюции из неё, а не из книги Дарвина.
Конечно, на первом заседании (оно озаглавлено: «Эволюция до Дарвина») наверняка Ламарк упомянут будет, но названия всех трёх докладов заседания — «Эволюция до эволюции»1, «Прогресс — эволюция: злой двойник?»2, «Романтическая биология и происхождение “Происхождения видов”»3 — ясно говорят, что великий француз послужит там в лучшем случае экраном для демонстрации величия Дарвина, а в худшем — мальчиком для порки, каковым он служит вот уже полвека. Но в дни Дарвина было совсем не так.
1. Союз двух наук — эволюции и иммунологии
Хотя в 1840—1858 годах Ламарк как эволюционист не упоминался в кругу Дарвина вовсе, однако его хорошо знали. Вне Англии его «Философию зоологии» с почтением цитировали (пусть и споря с ним) многие — например, ведущие философы Огюст Конт во Франции, Гегель и Шопенгауэр в Германии. Естественно, что при этом Ламарк был широко известен и биологам. Почти все ранние комментаторы учения Дарвина — восторженные, критические и ниспровергавшие — сравнивали его с учением Ламарка, и отнюдь не все видели в Ламарке просто предшественника. Например, немецкий переводчик книг Дарвина, знаменитый зоолог и палеонтолог Генрих Бронн, сравнивая концепции Ламарка и Дарвина, подчас отдавал предпочтение первому. Таков, например, вопрос: почему, несмотря на эволюцию, до сих пор существуют низшие животные?
Ламарк отвечал: потому, что низшие до сих пор заново возникают в порядке самопроизвольного зарождения. Дарвин же полагал иначе: низшие приспособлены к своим простым условиям существования и потому не изменяются. Бронн принял объяснение Ламарка, и в этом его поддержал юный Мечников, один из героев нашего рассказа.
Новые объяснения мы рассмотрим в части 3.
Словом, история науки отнюдь не так проста, как многим кажется, и как раз в дни двойного юбилея — великих книг Ламарка и Дарвина — её полезно вспомнить. Чтобы оценить их место в истории науки, надо посмотреть, как они повлияли на её развитие. В одной статье много не скажешь, и придётся выбрать какую-то одну сторону проблемы. Выберем иммунологию — потому, что последняя формировалась в параллель с дарвинизмом4, черпая идеи из него и из ламаркизма, а также потому, что успехи и неудачи эволюционизма на ней легче всего видны.
Генетика прекрасно объяснила, как из линейного текста гена получается линейный текст белка, но абсолютно ничего не смогла за сто лет сказать про то, каким образом из линейного текста генов получается трёхмерный орган – ну хотя бы почка. Поэтому вопрос: «Можно ли наблюдать эволюцию?» на сегодня генетически осмыслен только в одном плане: можно ли наблюдать появление нового белка, такого, какого прежде в природе не было? Да, можно, гласит иммунология. И это — огромный успех всей биологии, успех, ключевой для эволюционной науки.
Однако на вопрос, как именно появляется новый белок, ясного ответа нет, и это тоже видно из иммунологии.
2. Мечников и борьба клеток
Ознакомившись в 1863 году с «Происхождением видов» в немецком переводе Бронна, юный Мечников (ему было всего 17 лет) тут же написал критическую статью о новом учении. В ней много мальчишеского задора и лишней самоуверенности, но черты будущего классика уже видны: это наблюдательность, завидная эрудиция, умение сопоставлять факты из самых разных областей знания и полная независимость в суждениях. Приняв идею эволюции как возможность, юный автор напрочь отверг предложенный Дарвином её механизм — борьбу за дефицитный ресурс как основу естественного отбора. Напомню, идею эту Дарвин заимствовал из последнего (1834) издания книги Томаса Мальтуса.
Впоследствии, в годы зрелости, Мечников признал учение Дарвина, но опять-таки — без мальтузианской его компоненты. Этим он, сам того не зная, внёс солидный вклад в тот особый вариант дарвинизма, который у западных историков науки именуется «Дарвин без Мальтуса» и связан именно с российской наукой и общественной мыслью [3].
Данный вариант отрицал те формы борьбы за существование, которые возникают при перенаселённости (именно она делает какие-то ресурсы дефицитными). И в самом деле, все биологические факты, приведённые позже, в ХХ веке, в качестве примеров естественного отбора, касались ситуаций, когда успех вида не зависел от плотности его населения.
Таков, в частности, знаменитый пример «индустриального меланизма»: когда в XIX веке стволы английских берёз потемнели от угольной копоти, то тёмные (мутантные) формы бабочек, прежде редкие, стали частыми, а в ХХ веке, когда угольная индустрия ушла в прошлое, они вновь стали редкими. (Замечу, что эволюции тут нет, поскольку никакой новой формы не образовалось, да и старая не вымерла.) Отбор здесь, как и всюду, служил фактором расселения, но не эволюции. Аккуратные наблюдения и опыты однозначно показали, что даже самый жёсткий отбор не в силах направить эволюцию в определённую сторону, если ненаправленна изменчивость [1].
Вот и для Мечникова была существенна борьба за существование отнюдь не между особями одного вида за ресурс (как у Дарвина), а между особями разных видов. Именно такую борьбу он нашёл в иммунной системе: фагоциты (рис. 1) поедают опасные для организма клетки, не трогая клеток, ему полезных, каковые и выступают победителями в борьбе за жизнь. Аналогичную борьбу он увидел и в эволюции. Так в иммунологию вошёл дарвинизм.
В данной схеме мальтузианству действительно нет места, но беда в том, что для объяснения эволюции она малопригодна. В самом деле, дарвинизм объяснял и объясняет процедуру постепенного формирования полезного свойства исключительно как вытеснение каждым более удачным вариантом каждого менее удачного, то есть борьбой между особями одного вида в условиях перенаселения.
Отрицая роль последней, Мечников должен был предложить что-то ей взамен, что он и сделал: в работе «Борьба за существование частей животного организма» (1892) причиной гибели клеток при фагоцитозе названа их неспособность работать на благо организма, то есть неупотребление органа, по Ламарку. Так в иммунологию вошёл ламаркизм.
Ту же причину Мечников видел и в эволюции организмов. Например, отмирание глаз у подземных животных он объяснял тем, что глаза в почве легко воспаляются, тогда как пользы от них в темноте нет. Неупотребление и отбор действуют здесь, по Мечникову, совместно. Добавлю, что глаза столь же быстро отмирают и у пещерных животных, где особых оснований к их воспалению нет, то есть неупотребление органа действует здесь само по себе.
3. Эрлих: активность и селекция антител
Новая наука притягивает выдающиеся умы. Двое великих биологов заложили две ветви иммунологии: Пастер — химическую, а Мечников — клеточную, и сперва они конфликтовали, но на грани веков появился третий классик — Пауль Эрлих, сумевший взять от каждой ветви главное. У химической он заимствовал понятие антитела (растворимого белка, нейтрализующего антиген), как раз тогда получившее хождение среди учёных, а у клеточной — идею клетки как активного иммунного деятеля. Напомню, что активность особи — основной фактор эволюции у Ламарка [1]. Употребление и неупотребление (англ. use — disuse) органа можно описать как две крайние степени активности особи в отношении использования этого органа, но можно — и как две степени активности самого органа. Второй способ описания активности имеет прямое отношение к иммунологии, поскольку позволяет говорить о поведении фагоцитов и других клеток, а также их частей, словно они — особи.
Ещё в 1885 году Эрлих писал: «Всякий, кто рассматривает разнообразную активность, свойственную любой живой клетке, не может не согласиться с взглядами… что живая протоплазма должна собой представлять гигантскую молекулу» [4, c. 15]. Мы сейчас никак не можем с этим согласиться, но в то время рассмотрение клетки как гигантской молекулы было единственным способом описать клеточную активность. Химическую активность (сродство, валентность и т.д.) хорошо знали, тогда как активность биологическая ещё не вошла в научный обиход.
К этой молекуле-клетке Эрлих в 1901 году и приложил свою модель иммунитета, которую назвал: «теория боковых цепей». Как у реальной крупной молекулы, известной химикам, может быть сбоку присоединена малая цепочка атомов, так и у молекулы-клетки Эрлих предположил целый сонм «боковых цепей», в которых увидел предшественников антител (рис. 2). Активность и антигена и антитела он представлял себе как совокупность большого числа обычных валентностей, оценивая общую валентность антигена числом 200 [2, с. 164].
Главный вывод, к которому пришёл Эрлих, состоял в том, что антитело не может образовываться химически в ответ на появление антигена (и в этом был прав). А значит, решил он, «физиологические аналоги антител должны существовать заблаговременно в организме и в его клетке». Если так, то попавший в клетку антиген вызывает всего лишь усиленную выработку нужного антитела из предшественника, то есть (как стали говорить позже) производит своеобразную селекцию .
Здесь уже Эрлих был прав лишь отчасти: конечно, какие-то предшественники антител необходимы, но они никак не могут быть их «физиологическими аналогами», поскольку физиология будущих антител может быть весьма различна и её заранее не предскажешь.
4. Ландштейнер и искусственные антигены
В начале ХХ века в иммунологии появился ещё и четвёртый классик — австрийский врач и биолог Карл Ландштейнер. У него много заслуг, но нам он интересен тем, как развил ламаркизм в иммунологии.
Ландштейнер усомнился в том, что предшественники на все случаи жизни могут заранее существовать, и поставил начиная с 1912 года серию решающих опытов. Он вводил в кровь подопытных животных искусственные антигены, то есть такие химические вещества, каких в прежней истории животных быть не могло. Антитела вырабатывались и на них!
«Специфичность антител оказалась настолько велика, что оказалось возможным получать сыворотки, различающие орто- и параизомеры одной и той же молекулы» [4, c. 21]. Если число возможных вариантов антител столь велико, то одновременное их наличие у каждой особи невероятно, и приходится признать, что иммунная система каким-то образом узнаёт строение внедрившегося антигена и делает к нему антитело. Другими словами, этот антиген как бы даёт иммунной системе инструкцию , согласно которой формируется антитело.
Так возник вековой спор двух школ (вернее, лагерей) в понимании иммунного ответа — селективной и инструктивной. Ландштейнер, глава второй школы, исходил из точных фактов, но другие этому правилу уже не следовали. Участники спора полагают, что основывают свои взгляды на фактах, не подозревая, что на самом деле просто объявляют учёному миру свою идейную принадлежность и что сами их идеи куда как старше, старше самой идеи эволюции — они идут из античности [5]. Первая идея исходит из убеждения, что все сущности предсуществуют от века и мы наблюдаем лишь их реализацию (позиция Платона), а вторая — что мы действительно наблюдаем появление новых сущностей (позиция Аристотеля). Кратко говоря, тысячелетний спор идёт о том, что в природе старше — само тело или его идея (информация о нём)? В данном случае: что появляется в организме сначала: антиген (зараза) или антитело против него?
В наше время принято считать, что философским основанием всех наук является принцип причинности , гласящий, что всякое следствие следует во времени за своей причиной. Поскольку антитело есть ответ организма на антиген, то есть следствие появления антигена в организме, то оно должно появляться позже, чем антиген. Инструктивная теория как раз это и утверждает, тогда как селективная — наоборот. Выходит, что с позиции принципа причинности первая теория научна, а вторая — нет.
Так и утверждали инструктивисты, тогда как селекционисты отвечали им, что антитела возникают случайно и что некоторые из них оказываются (случайно же) годными для борьбы с данным антигеном. То есть взамен принципа причинности здесь был выдвинут (чтобы обойти вопрос о платонизме) принцип случайности. Законно ли это?
Опуская тонкости, можно сказать так: да, если случайные события могут за приемлемое время (в данном случае не больше трёх суток) породить в организме всё то, чего от них ждут. Нет, если расчёт покажет, что не могут. Словом, вопрос упирается в арифметику.
Легко догадаться (ниже мы это увидим), что арифметика высказалась решительно против селекционистов и в пользу инструктивистов. Но Ландштейнера почти никто не слушал. Получив в 1930 году Нобелевскую премию, он с изумлением прочёл в дипломе, что его наградили лишь за весьма давнее (1901) открытие групп крови, тогда как сам он считал своим главным достижением многолетнее исследование антител к искусственным антигенам [2, с. 191].
5. Попытка соединить теории
Австралийский вирусолог Фрэнк Макферлейн Бернет в 1941 году обратился к иммунологии и горячо поддержал Ландштейнера, предложив свою модель выработки антител, чисто инструктивную. В её основе лежала модная в те годы параллель между высокой специфичностью антител и высокой специфичностью ферментов: если антитело столь высоко специфично к антигену, то оно и устройством должно быть похоже на фермент. Такие модели имели большой успех, но он был недолог [4].
В 1955 году датский иммунолог Нильс Ерне предложил гибридную (селективно-инструктивную) идею. Слабую сторону селективной идеи (наличие огромного числа различных антител, заранее существующих в организме, что невероятно) Ерне предложил укрепить допущением, что каждого антитела в организме ничтожно мало — одно или несколько штук. Тогда различных антител в нём могут (считали в то время) находиться миллиарды, так что на каждый антиген, попавший внутрь организма, в принципе может найтись нужное антитело. Для того чтобы схема могла работать, надо, чтобы в ответ на попадание антигена нужное антитело начинало взрывообразно размножаться. Это возможно в результате автокаталитического (самоускоряющегося) процесса, если (вот второе допущение) антитело служит само для себя матрицей, то есть само себя копирует. Иначе говоря, служит само себе инструкцией.
Прочтя статью Ерне, Бернет понял: если инструкция необходима лишь для размножения нужного варианта, то от инструктивного принципа вполне можно избавиться — достаточно допустить (другой вариант второго допущения) вместо копирования белковой молекулы мутирование гена, кодирующего эту молекулу. Вместо случайного нахождения антитела Бернет ввёл (в статье 1957 года) принцип его случайного появления. Единственной мутантной клетки, производящей нужное антитело, будет достаточно для борьбы с заразой, если (вот третье допущение) эта клетка создаст клон , то есть начнёт безудержно делиться, в отличие от остальных клеток, и тем самым подвергнется селекции . Клональное деление иммунных клеток было уже известно, но причина его оставалась загадкой.
Итак, инструктивную (автокаталитическую) гипотезу Ерне белок → белок Бернет заменил гипотезой соматической5 мутации ген → белок.
Напомню, что «центральная догма молекулярной биологии» (ДНК → РНК → белок) была высказана позже, в 1958 году (Ф. Крик). Инструктивный компонент теперь пропал, и родилась чисто селективная «клонально-селекционная теория образования антител». Её успех побудил Бернета написать книгу «Клонально-селекционная теория приобретённого иммунитета». Она вышла в свет в 1959 году, в год столетия «Происхождения видов», а через год Бернет стал нобелевским лауреатом.
Разумеется, устав премии был соблюдён: формально её дали не за «теорию», а за предсказание Бернетом вполне конкретного опытного результата — приобретённой иммунной толерантности. Результат был установлен в 1956 году английской группой Питера Медавара (он получил премию вместе с Бернетом) и состоял в следующем.
Как известно, у теплокровных (млекопитающие и птицы) ткань, пересаженная от одного организма другому того же вида, не приживается, а отторгается. Причина в том, что у них идёт непрерывная процедура распознавания белков (своих и чужих) на предмет выявления чужеродных. Последние уничтожаются, а свои — нет; к ним организм проявляет толерантность. Оказалось, что толерантность не наследуется, а формируется в каждой растущей особи заново. Поэтому Бернет предположил, что можно сделать животное толерантным к чужим белкам, если ввести их в кровь новорождённого. Так и оказалось.
Предсказание следовало из уже отвергнутой самим Бернетом инструктивной модели (ее ещё держался в то время Медавар), но это никого не занимало, и оба вошли в историю иммунологии как гении, избавившие иммунологию от «ереси ламаркизма» или даже от «ламаркистского психоза». Вскоре появилась «центральная догма молекулярной биологии», гласившая, что источником новой информации являются только случайные мутации в половых клетках. Концепцию Бернета впоследствии стали, по аналогии, именовать «центральной догмой молекулярной иммунологии». В самом деле, обе догмы утверждали одно и то же — отрицали активность поиска новых вариантов, как её отрицает дарвинизм. Но догмы, как известно, относятся к религии, а не к науке, и это вскоре дало себя знать. В частности, концепция Бернета оставалась недвижной, хотя всё более и более расходилась с арифметикой.
6. Долой арифметику!
Арифметику тогда никто из иммунологов, кроме вымиравшей горстки инструктивистов, не вспоминал, но вопрос: «Почему у организма хватает времени и молекул для ответа на инфекцию?» — оставался, вызывал упрёки, и вот в 1969 году Бернет с высоты нобелевского олимпа решился его прояснить. В самом слабом месте своей концепции — в проблеме ответа организма на искусственные антигены.
Приведя возражение инструктивистов о невероятности наличия в одном организме антител ко всем принципиально возможным антигенам, включая искусственные, Бернет ответил: «В основе этого возражения лежит совершенно ошибочная интерпретация концепции рандомизации», то есть концепции случайности.
На самом деле, замечу, вопрос не так прост, к одной случайности его никак не свести, но послушаем доводы Бернета, они любопытны. Он пояснил: допустим, что в алфавите из 20 букв (таково число различных кодируемых аминокислот) закодирован активный центр антитела, состоящий из двух пептидов по 10 аминокислотных остатков каждый. Всего возможно 2010 или примерно 1013 вариантов каждого пептида.
Это количество, по Бернету, «всё равно ещё слишком велико», поэтому он допустил, что не все замены имеют функциональное значение. И объяснил, что значит «не все». Прошу у читателей извинения, но его объяснение мне придётся процитировать почти целиком (опустив только уходы в сторону, отмеченные многоточиями), ибо при пересказе вряд ли кто поверит, что нобелевский лауреат мог подобное написать.
«Селективная теория постулирует, что в индивидуальном организме, скажем, человека или кролика, продуцируется около 100 тыс. подобных структур (коротких пептидов. — Прим. Ю.Ч.), однако в каждой клетке может функционировать только одна такая структура… Возникнув в организме в результате дифференцировки, любая такая клетка должна пройти “сквозь строй” собственных самых разнообразных потенциальных антигенных детерминант, которых насчитывается около 100 тыс., и, “случайно” прореагировав со структурой соответствующей специфичности, может образовать с ней достаточно прочную связь. Если такое событие действительно произойдёт, то, согласно гипотезе, эта клетка будет элиминирована. Таким образом, может быть элиминировано до 90% случайно возникших структур, несущих иммунологические рецепторы. В результате в организме останется 10% первоначально возникших клеток, несущих, скажем, 10 тыс. иммунологически специфичных структур, обладающих свойствами антител… Эти 10 тыс. иммунологически специфичных структур способны реагировать с любым синтетическим веществом, так же как и с любым природным…»
«Такой свободный подход к проблеме является большим достоинством селективных теорий. Антитела или рецепторы не продуцируются организмом по заказу, в соответствии с инструкцией антигена, синтетического или природного. Организм ответит на введение антигена иммунологической реакцией лишь в том случае, если данный потенциальный антиген отыщет в организме иммуноциты… с которыми этот антиген способен прореагировать» [6, с. 256].
На этом рассуждение кончается, не давая никаких отсылок к другим местам книги или к другим публикациям. Сравнив его с остальными положениями Бернета, приходится заключить: автор здесь заявил, что природа устроена так, как ему нужно для теории, а не иначе, причём выдумал для этого все недостающие факты и числа. Не верите? Я и сам долго не верил и ссылался на «клонально-селекционную теорию» в своих работах, пока не прочёл внимательно приведённую цитату. Давайте пройдёмся по тем местам, которые я выделил выше курсивом.
1) Упрекнув инструктивистов (каковым недавно был сам) в непонимании случайности, он интересно разъяснил нам суть дела: сперва дал слово случайность в кавычках (мол, не придирайтесь, случайность — просто метафора), а затем — без кавычек (будто термин уже введён). Именно тут и так он отказался от принципа причинности, основы наук.
2) Как уже сказано, случайностью можно заменять причинность, если все нужные события происходят достаточно часто. Чтобы убедить нас в регулярном наличии нужных случайных событий, автор приводит числа. Для их оценки он выбрал воображаемый активный центр антитела, поскольку тогда уже было известно, что реальный активный центр фермента (группа атомов, служащая катализатором ферментативной реакции) всегда невелик и оценка в 10 «букв» реальна. Настораживает только ремарка: «всё равно ещё слишком велико», — автор явно понимает, что провёл негласное занижение, но даже его недостаточно.
Занижение колоссально: ведь активный центр фермента отвечает лишь за сам ход реакции, тогда как за её специфичность (за то, что будет допущено к реакции) отвечает остальная молекула, всегда огромная. Так что 20 надо бы возвести не в десятую, а хотя бы в сотую степень. Но тогда получится нелепо огромное число вариантов — напомню, что даже число элементарных частиц во Вселенной не превышает 1080.
3) Трудность необъятного числа вариантов автор решил обойти признанием, что не все варианты надо рассматривать. Святая правда! Только вот какую долю всё-таки рассмотреть надо? Тут он поразил читателей простодушием — вместо 1013 оставил 105, то есть одну стомиллионную от им же принятого (безбожно заниженного) числа вариантов.
4) И тут-то получилось всё, что надо? Кабы так! Да, автор оставил к рассмотрению 10 тыс. вариантов антител на организм (как мы узнаем дальше, у мыши их примерно столько и есть), но трудность не исчезла, а лишь сместилась в иную плоскость. Различных бактерий известно около 100 тыс., такого же порядка число известных видов вирусов, и каждый может выделять по нескольку антигенных веществ. Прибавим к этому искусственные антигены, которых можно насинтезировать невесть сколько. Значит, различных антител нужно одновременно больше миллиона. Но каждая В-клетка (иммунная клетка, продуцирующая антитела) синтезирует один вид антител, и таких клеток нужно сразу много. В мышке такое число В-клеток просто не уместится (в ней всего 107 иммунных клеток, из которых В-клетки составляют едва ли пару процентов), а иммунитет её работает, и ничуть не хуже, чем у человека.
Здесь Бернет смог одно — манипуляцию со словом «любой». В первом употреблении оно значит у него «каждый» (каждая возникшая клетка, то есть каждая возможная), а во втором — «тот, который будет выбран» (антиген, выбранный иммунной системой). Невнимательный читатель, не увидев разницы, может подумать, что задача решена: для каждого возможного антигена найдётся своё антитело.
Очевидно, что на самом деле иммунитет устроен как-то иначе.
Как же могло так получиться, что этот бессвязный набор произвольных утверждений почти всех устроил? Это уму непостижимо — если только забыть, что Бернет своим способом рассуждать в точности повторял Дарвина. У того было всего два «примера действия естественного отбора» (волки, гнавшие оленей, и насекомые, опылявшие цветок), и оба – без всякой арифметики; однако учёный мир его принял.
7. Возвращение арифметики
В 1970-х годах в блестящей австралийской школе иммунологов нашёлся исследователь совсем иного типа, Эдвард Стил, тогда ещё юный стажёр. Его собственную концепцию, во многом спорную, мы рассмотрим чуть позже, а пока только позаимствуем у него некоторые числа, которые никто никогда не оспаривал и не оспаривает.
Яды, выделяемые бактерией (антигены), нейтрализуются антителами, и встаёт вопрос: что быстрее размножается — бактерия или В-клетка нужного типа? Учебники и руководства по иммунологии дружно обходят данный вопрос, а вот у Стила написано: бактерия обычно делится ежечасно, тогда как В-клетка — за 5—6 часов. Стало быть, клон В-клеток сам по себе беспомощен, и это у Стила отмечено: «Соревнование может быть выиграно только при условии, что начальное число В-клеток, связывающих эти бактерии, велико» [7, с. 111]. Но если размножение начинается не с одной особи, а со многих (как оказывается на практике — с миллионов), то его нельзя называть клональным.
Этот удар по клональной идее — не единственный. Столь же важно, каким числом различных типов антител, присутствующих одновременно, может оперировать организм. Оказывается, их количество у мыши иммунологи оценивают в 104, тогда как нужны миллионы. И если иммунитет действительно справляется со своей задачей (для каждого или почти каждого антигена находится антитело), то, значит, нужные антитела продуцируются намного чаще, нежели можно ожидать при том мутировании, какое предполагал Бернет в качестве единственного источника новизны антител. Насколько же чаще?
В настоящее время механизм формирования антител расшифрован, и число возможных их вариантов как у мыши, так и у человека оценивается в 1014. А присутствует антител у мыши 104 вариантов. Разница, как видим, в 10 порядков (в 10 млрд раз). Проще говоря, в процессе поиска нужного варианта лишь одна десятимиллиардная часть приходится на случайность, в остальном же поиск целенаправлен. Вот почему (наряду с другими причинами) Стил разочаровался в схеме иммуногенеза «по Дарвину». В поисках лучшей теории он обратился к ламаркизму, как он его понимал тогда и как понимает ныне.
8. Ламаркизм в иммунологии
К сожалению, ламаркизмом в последние лет 80 принято именовать исключительно наследование свойств, приобретённых особью при жизни. (В западной науке такое понимание является единственным.) К самому Ламарку это имеет мало отношения — таковое наследование признавали все, в том числе и Дарвин, вплоть до появления в 1876 году работ германского биолога Августа Вейсмана, выдвинувшего принцип ненаследования приобретённых признаков. Можно было бы смириться с этой ошибкой речей о ламаркизме (ведь говорим же мы «Солнце встало», хотя знаем, что на самом деле Земля повернулась), однако в дни юбилея главной книги Ламарка мы просто обязаны вспомнить, что утверждал великий француз на самом деле и что взяли у него его последователи (а не преследователи).
Главное у Ламарка (что уже сказано выше в связи с Эрлихом) — принцип активности особи как фактор эволюции вида. Эта активность проявляется, по Ламарку, тремя основными способами. Во-первых, активное использование органа или функции вызывает их усиление, а неиспользование — ослабление (use — disuse, см. выше). Во-вторых, результат данной процедуры наследуется (вот единственное, что усвоено у Ламарка нынешним западным пониманием ламаркизма, да и то чаще говорят про само наследование приобретённых признаков, чем про принцип use — disuse). И, в-третьих, организмы обладают стремлением к усложнению строения и функций (к совершенствованию, к прогрессу — кто как выражается). О последнем пока говорить не будем, как не говорят Стил и другие западные ламаркисты.
Стил вовсе не отрицал и не отрицает клонально-селекционной идеи, он лишь добавил к ней допущение, что новый признак, возникнув (например, в результате той же соматической мутации), может стать наследственным. Оно, по мнению Стила, может примирить Бернета с арифметикой.
Способ передачи гена из соматической клетки в половую был тогда известен и даже уже обсуждался как возможный фактор эволюции иммунитета (так называемый горизонтальный перенос гена, см. словарик) — так что очередь была лишь за опытом, демонстрирующим факт наследования приобретённого иммунного свойства. За опыт Стил и взялся.
Он и его сотрудник Рег Горчинский, тоже тогда молодой, работая в Торонто (Канада), модифицировали тот опыт, который принёс успех Бернету и Медавару. Схема получения приобретённой толерантности была ими усложнена (рис. 3): «Мы показали, что если новорождённых самцов линии А повторно подвергать воздействию большого числа лимфоцитов линии В, то толерантные самцы могут передавать некоторые черты специфической толерантности к антигенам В-ткани своему потомству, полученному от скрещивания с нормальными самками линии А… Положительная передача была непостоянной, проявляясь большой частотой у одного-двух из десяти самцов» [7, с. 153, 154].
Итак, была установлена высокая и достоверная, хотя и неустойчивая, частота наследования приобретённого иммунного свойства: весьма заметная часть потомства воспринимала в качестве своих те белки, которые были инъецированы во младенчестве их отцам.
Неустойчивость частот прекрасно известна всем биологам, поскольку таковы частоты едва ли не всех мутаций. Почти сто лет из книги в книгу кочуют оценки частот порядка 10-7—10-5 на ген на поколение, то есть с разницей в сотни раз. К ним стоит добавить явление, известное как «мода на мутации», когда для данного вида оценка частоты мутаций вдруг подскакивает в десятки раз, чтобы через несколько поколений упасть снова. Это значит, что мы почти никогда не можем сказать, с какой вероятностью мутирует интересующий нас ген: ведь вероятность во всех прикладных науках — это устойчивая от опыта к опыту частота. И тем не менее никто из-за этого не сомневается в реальности мутаций.
С открытием Стила вышло иначе. Сперва его окружал успех, его печатали самые престижные журналы, но вскоре (1980) им заинтересовался Медавар, ставший за четверть века, истекшие со дня его собственного открытия, яростным дарвинистом. (То же произошло тогда почти со всеми биологами, что выразилось в утверждении «центральной догмы» почти без споров.) Его лаборатория повторила опыт Стила и получила, по сути, тот же результат. Однако вывод сделали противоположный: если устойчивой частоты наследования нет, то нет и самого наследования. А что есть? Есть, по Медавару, только случайные мутации (видимо, он отнёс к ним и рекомбинации) генов, кодирующих антитела. Тот факт, что их частоты ещё менее устойчивы и гораздо более низки, во внимание принят не был и даже никому, кажется, в голову не пришёл.
Из данной истории, по-моему, ясно, что Бернету надо было бы в своё время не ставить и снимать кавычки у слова случайность, а исследовать феномен случайности всерьёз. Об этом мы поговорим в части 3.
Медавар потребовал, чтобы Стил прекратил опыты и сменил область деятельности. В 1981 году Стил писал: «Сэр Питер Медавар и его коллеги сообщили мне… что я должен сменить область своих научных интересов и не публиковать ничего на тему сома → зародышевая линия». Спорить с лауреатом было невозможно, Стил вернулся в Австралию, но и там его не хотели брать на работу. Он был глубоко подавлен и, вероятно, пропал бы для науки, если бы в дело не вмешался Философ.
(Продолжение следует.)
СЛОВАРИК К СТАТЬЕ
Антиген — чужеродная молекула, способная вызвать иммунный ответ организма.
Антитело — макромолекула из числа иммуноглобулинов, продуцируемая В-клетками теплокровного организма в качестве иммунного ответа. Каждый тип В-клеток продуцирует только один тип антител, и этот тип способен нейтрализовать только один тип антигенов.
Горизонтальный перенос генов — передача генов от одного организма другому вне процесса полового размножения (вертикального переноса) или в пределах одного организма. Чаще всего происходит через посредство вирусов.
Гуморальный иммунитет — совокупность иммунных реакций организма, связанных не с клетками, а с внеклеточными жидкостями. Таковым является иммунитет растений, а у животных — все реакции врождённого иммунитета, не связанные с работой фагоцитов (например, уничтожение бактерии собственным антибиотиком организма). Иногда к гуморальному иммунитету относят и действие антигенов на антитело, хотя источником последних являются специально для этого производимые В-клетки.
Лимфоциты — клетки, плавающие в лимфе и ответственные за иммунный ответ. К ним относятся, в частности, В-клетки.
Фагоцит — клетка, предназначенная для уничтожения других клеток (как чужеродных, так и собственных) путём их поглощения.
Литература
1. Чайковский Ю. В. Что же движет эволюцию? // Наука и жизнь, 2007, № 9.
2. Ульянкина Т. И. Зарождение иммунологии. — М., 1994.
3. Todes D. P. Darwin without Malthus. The struggle for existence in Russian evolutionary thought. — N.Y., 1989.
4. Аронова Е. А. Иммунитет. Теория, философия и эксперимент. — М., 2006.
5. Lherminier Ph. Modèles instructifs et modèles sélectifs de l’origine des espèces // Jean-Baptiste Lamarck, 1744-1829 (119е Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, 1994). — Paris, 1997, pp. 409 —424.
6. Бернет Ф. Клеточная иммунология. — М., 1971.
7. Стил Э., Линдли Р., Бландэн Р. Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция. — М., 2002.
Комментарии к статье
1 Для нас название выглядит странно, но следует помнить, что в США ныне принято именовать эволюцией дарвинизм (а само историческое развитие организмов называть другим термином — филогенией). Поэтому смысл названия лекции можно передать так: «Мысли об эволюции, высказанные до появления единственной достойной упоминания теории эволюции».
2 В оригинале: «Progress — Evolution’s Evil Doppelgänger?». Слово «двойник» дано по-немецки, указывая, что темой доклада объявлено сопоставление «эволюции» (в её нынешнем американском понимании) с эволюционизмом немецких натурфилософов — от Йоганна Гердера (1784) до Генриха Бронна (1858), а вовсе не с учением Ламарка, где тоже шла речь о прогрессе.
3 Романтической принято называть концепцию немецкого натурфилософа Лоренца Окена (1805 и позже). Здесь вполне вероятно и насмешливое упоминание Ламарка.
4 Рождение иммунологии относят к 1876 году, когда Л. Пастер получил вакцину против куриной холеры, показав тем самым, что давно известный пример лечения оспы посредством вакцины (Э. Дженнер в Англии, 1796) можно распространить на другие болезни и что можно обосновать лечение теоретически. То была иммунология растворов (гуморальная). В 1883 году И.И. Мечников показал, что реакцию иммунной защиты ведут особые клетки – фагоциты, поедающие чужеродные клетки, и тем самым основал клеточную иммунологию. А в 1901 году К. Ландштейнер открыл группы крови и их иммунную природу. Тогда же в обиход вошло ставшее основным в иммунологии понятие антитела – частицы, нейтрализующей чуждую частицу (антиген) [2], а также понятие мутации, основное в генетике и дарвинизме. Так начался для биологии ХХ век. Напомню, что для физики он начался появлением понятий кванта и относительности.
5 То есть происходящей вне половых клеток.