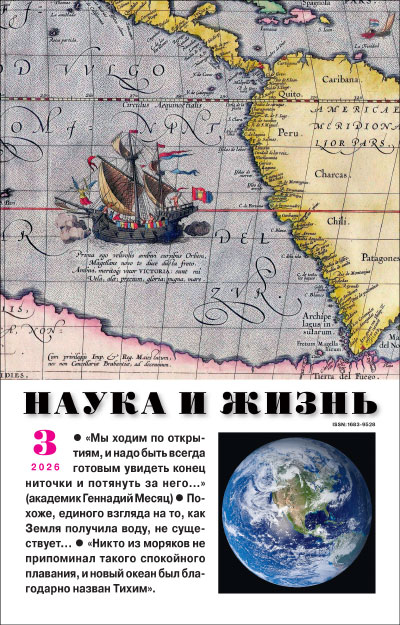I
Думаю, не случайно значительная часть населения сегодняшней России восхищается «мудрым руководителем, который привёл СССР к могуществу и процветанию». И дело не только в ностальгии о временах величия СССР. В нашей посткоммунистической стране жива вера в историческое торжество светлых идеалов коммунизма, а в соответствии с ней убеждение, что во имя идеалов и гибель людей — своих же соотечественников — не страшна. Сталиномания проистекает от непреодолённых коммунистических воззрений, следствием чего является атрофия чувства сострадания, неспособность впустить в свою душу чужую боль. Поэтому я согласен с философией программы «Об увековечивании памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении» (в феврале нынешнего года на заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека её изложил в присутствии Дмитрия Анатольевича Медведева профессор С. А. Караганов): речь должна идти не о десталинизации, а о декоммунизации. Ибо нам важно прежде всего избавиться от мировоззрения, которое способствовало созданию сталинского режима, оправдывало его преступления и вело к самоистреблению нации.
В принципе иллюзии, связанные с коммунистической идеей, вряд ли представляют, как мне кажется, реальную угрозу нашей нынешней власти. Но ей всё же надо отдавать себе отчёт в том, что упрочение этих иллюзий прямо или косвенно ослабляет её легитимность, подрывает духовные опоры с трудом достигнутой стабильности. Если при Сталине, при коммунистах было лучше, чем сейчас, как полагает добрая половина населения новой России, то, следовательно, в 1991 году была совершена ошибка и враг КПСС Ельцин повёл страну куда-то не туда. В массе-то своей россияне мало знают об объективных причинах распада советской экономики, о её коренных изъянах и изначальной неконкурентоспособности, о подлинных причинах краха СССР.
Это, что называется, внутреннее отражение проблемы. Есть и внешнее: сталиномания наносит удар по престижу России, побуждает сомневаться в моральной состоятельности современной российской нации. Представляете, как выглядит в глазах современного европейца государство, где до сих пор в почёте лидер, по вине которого пошла под нож не только национальная элита, — миллионы прошли через муки Гулага, миллионы вымерли от искусственного голода?! Нельзя считать себя частью Европы, говорить о своей принадлежности к христианской культуре и славить человека, рассылавшего разнарядки на отстрел невинных людей. Преклонение перед палачом свидетельствует о сохранении в обществе настроений ненависти, из которых и выросла на самом деле советская репрессивная система.
Сталиномания — однозначный признак нравственного кризиса современной России. Невозможно понять поразительное равнодушие к гибели, к мукам не только соотечественников, но даже прямых предков, своих же родных, расстрелянных, раскулаченных, сидевших в Гулаге, умиравших от организованного голода. «Почти половина (46 %) тех, чьи родственники были репрессированы в 1930-х — 1940-х годах, утверждают, по результатам исследований ВЦИОМ, что десталинизация — это миф и пустые слова, которые коверкают историческое сознание россиян, и только каждый третий (30 %) считает такую меру своевременной, без которой наша страна не сможет двигаться дальше и успешно развиваться» 1. Да, в нынешней России много злобы, много зависти, но самое страшное — безразличие. Безразличие к тому, что будет со страной, что будет после нас. Может быть, вообще невозможно активно жить душой, сохранять в чистоте нравственные чувства, когда у тебя нет веры в будущее, в то, что мы, русские, в состоянии устроить свою жизнь по разуму, без бесконечных абсурдов? Что-то с нами происходит опасное, невообразимое.
II
Понятно, что говорить всерьёз о какой-либо декоммунизации невозможно, пока всесторонне не изучены причины столь поразительной живучести коммунистических воззрений в сознании россиян.
Мы ведь в идейном плане существенно отличаемся от жителей как бывших соцстран Восточной Европы, так и бывших советских республик Прибалтики. Для поляков, венгров, эстонцев, латышей, литовцев Сталин — убийца, кровавый маньяк. Поляки ненавидят его так же люто, как евреи Гитлера. У нас же практически во всех теледебатах народное голосование в пользу Сталина иже с ним десятикратно перекрывает голосование в пользу любого оппонента. Но и в отношении к пролетарским революциям, к большевикам вообще наши соседи-европейцы позиционируют себя иначе, чем мы. За несколько лет работы в Институте философии и социологии Польской академии наук (1978—1981) я так и не встретил адепта марксистского учения о коммунизме. А мы, покончив в 1991 году с детищем Октября, продолжаем смотреть на мир глазами комсомольской юности… На чьей, скажите, стороне остаются, по сути, наши симпатии при просмотре фильмов о Гражданской войне?.. Даже наш президент, отстаивающий либеральные ценности, по старинке говорит о своём родном городе как о столице «трёх славных революций». Если Октябрь до сих пор в нашем представлении не переворот, обернувшийся для России катастрофой, самоистреблением, а праздник, может, не стоило отказываться и от советской системы?
В силу того, что и Октябрь, при всех оговорках, был всё же выбором русского народа, процессы декоммунизации будут происходить у нас и медленнее, и болезненнее, чем в бывших соцстранах Восточной Европы. Нельзя забывать, что и в Польше, и в Венгрии, и в Чехословакии, и в Восточной Германии коммунисты в конце 1940-х годов пришли к власти, прежде всего, потому, что после окончания Второй мировой войны в этих странах оставались части Советской армии. И что попытки населения этих стран освободиться от навязанной им советской системы (в ГДР — в 1949 году, в Венгрии — в 1956-м, в Чехословакии — в 1968-м) подавлялись силой, при помощи наших танков. Поэтому, сравнивая идеологическую ситуацию в новой России с ситуацией в той же Польше или Венгрии, надо помнить, что там имело место не только духовное отторжение навязанной им советской системы, но и объективное политическое сопротивление. Противостояние советской, коммунистической системе воспринималось там как борьба за национальную независимость. И падение коммунизма в 1989 году стало и для поляков и для венгров национальным праздником. Интересно, что даже польская «Солидарность», левая по своей исходной закваске (ведь она была движением рабочего класса), являлась одновременно антисоветским движением.
Страны Восточной Европы в принципе легко уходили от советской системы, ибо полагали, что после сорока лет хождения по тупиковой дороге они легко вернутся на магистраль многовекового национального развития, что им будет легко восстановить историческую преемственность с прошлым. Ведь, скажем, в Польше ещё в конце 1970-х — начале 1980-х годов оставалось много представителей старой досоциалистической интеллигенции, которые воспринимались в обществе как хранители национальных ценностей. И опыт «бархатных революций» в странах Восточной Европы показал, что именно эти потомки консервативной интеллигенции создают основу для устойчивости общества после краха коммунистической системы. Конечно, в Польше к тому же связь времён обеспечил костёл. Русская православная церковь — единственный институт, сохранившийся от старой России, — по объективным причинам не смогла бы возглавить процесс декоммунизации в нашей абсолютно атеистической постсоветской стране. (Даже сейчас, спустя двадцать лет после распада СССР, у нас не более шести процентов воцерковленных, живущих активной религиозной жизнью русских.) Сама же новая русская нация есть результат всей репрессивной классово-социальной политики семидесяти лет правления Советов, то есть в большинстве своём мы — потомки бывшего беднейшего крестьянства и рабочего класса. Может быть, и поэтому у нас так мало тех, кто бы сочувственно относился к жертвам красного террора, сопереживал гибели русского офицерства, дворянства, сословия священнослужителей. С этим обстоятельством, наверное, тоже надо считаться, когда мы ищем причины живучести коммунистических воззрений в России.
Но главное в том, что у нас не было самóй антикоммунистической революции в точном смысле слова. Мало кто в 1991 году понимал глобальный смысл происходивших тогда событий — того, что осуществляется смена общественно-экономической формации. Слом советской государственной машины у нас стал результатом неудачных попыток реформировать социализм. В Конституции РФ 1993 года ничего не говорится о связи «новой России прав и свобод личности» с дооктябрьским прошлым. Новая, якобы демократическая Россия не подчеркнула свою преемственность даже с вполне демократически избранным Учредительным собранием, разогнанным большевиками в январе 1918 года. И это ещё одно доказательство того, что демократическую революцию у нас творили советские люди, лишённые национальной памяти и на самом деле предполагавшие и дальше исповедовать советские, коммунистические ценности.
Надо видеть правду. Население РСФСР никогда бы не пошло ни за Ельциным, ни за «Демократической Россией», если бы вожди антиаппаратной оппозиции честно сказали людям, что хотят реставрировать рыночную экономику, покончить с социальными гарантиями советской системы, распустить колхозы и совхозы, закрыть нерентабельные промышленные предприятия, возродить безработицу и т.д. Ельцин и его команда опрокинули Горбачёва, власть партийного аппарата потому, что критиковали советскую систему не с правых, а с левых позиций, с позиций уравнительного коммунизма. И Ельцин, и многие вожди «Демократической России» обрели популярность прежде всего благодаря критике так называемых привилегий партийного аппарата. Правда состоит в том, что антикоммунистическую, антисоветскую революцию мы совершили под коммунистическими лозунгами. После подобного рода революции вообще, наверное, трудно говорить о какой-либо декоммунизации.
Но надо!
III
Это только некоторые причины укоренённости в сознании нынешних россиян советских, стереотипных, пропагандистских представлений и о собственной национальной истории, и о деле Ленина — Сталина. Своими мыслями и взглядами на мир значительная часть населения осталась в советском прошлом, поскольку у нас не было не только субъекта антикоммунистической революции, но и идущей снизу потребности населения в формационных изменениях, реставрации рынка, частной собственности, того, что принято называть капитализмом.
Но парадокс нашей ситуации состоит не только в том, что, чем дальше мы уходим от советского прошлого, тем больше у простого человека появляется причин вспоминать о нём с теплотой. Нынешняя постсоветская власть усиленно воспроизводит все те настроения недовольства, которые успешно эксплуатировали в 1917 году большевики. Никогда так не были зримы причины победы большевиков в России, как сейчас, в условиях чудовищного роста различий в доходах населения, зашкаливающей за все разумные пределы поляризации общества. В «Размышлениях о русской революции» (1927) Николай Бердяев писал, что всему виной «раскол между верхним и нижним слоем… какого не знали народы Запада», раскол между «русским народным слоем» и «русским культурным слоем и русским барством». Но ведь сейчас раскол между офшорной олигархией, у которой и деньги, и дома, и дети в Лондоне, и санитаркой, живущей на семь тысяч рублей в месяц в Тамбове, куда больше, чем между сахарозаводчиком и его рабочим в царской России.
Мне думается, что нынешняя власть всё же должна всерьёз заняться анализом причин живучести коммунистических воззрений в современной России, ибо это отражается на политической стабильности в стране.
Большевики со своим марксизмом как партия классового раскола могли победить только в условиях дефицита национальной памяти, дефицита чувства национального русского единства. Но ведь сейчас идей и ценностей, скрепляющих новую русскую нацию, ещё меньше. И одновременно много, как и в 1917 году, людей, настроенных злобно и мстительно. По данным доклада Института социологии РАН, посвящённого анализу оценки россиянами перемен, произошедших за последние двадцать лет в стране, у нас много неуравновешенных, агрессивно настроенных мужчин, готовых, как они говорят, «всех перестрелять».
Всё это даёт мне основание утверждать, что современная сталиномания является формой политического протеста. И равнодушие к самому факту сталинских репрессий вызывается в одних случаях неполноценным духовным развитием, дефицитом национальной памяти. Но в других за ним стоит элементарная злость как выражение недовольства своей жизнью в своей стране. С точки зрения многих нынешних россиян, равная нищета эпохи Сталина, и вообще советских времён, была справедливее и комфортнее, чем удручающее неравенство в сегодняшней России, стране, лидирующей по числу миллиардеров. На обыденном уровне до сих пор справедливость связывается с уравнительностью, а потому не исключено, что некоторые россияне из сегодняшнего дня воспринимают равную, массовую бедность как рай на земле. Хотя, как я помню, во времена Сталина никто не восторгался своей равной бедностью. За популярностью Сталина (здесь я имею в виду в первую очередь настроение так называемых убеждённых сталинистов, прежде всего старшего поколения) стоит тоска по порядку, по улицам, свободным от преступников, по школам, где не продавали наркотиков и не совращали детей.
И снова, как в дореволюционной России, классовые чувства сильнее чувств национальной общности (что, как объяснял Антон Иванович Деникин, и было одной из главных причин победы большевиков). Потому потомков тех, кто выиграл от реальных или мнимых успехов социализма, трудно разжалобить рассказами о муках кулаков и середняков, которых лишали нажитого добра и ссылали в Сибирь. Но формальное равенство рабочих и крестьян, даже характерное для советской власти исходное стартовое преимущество детей рабочих и крестьян, на самом деле было достигнуто страшной ценой — уничтожением на корню наиболее сильной, хозяйственной, самостоятельной, предприимчивой части российского крестьянства, ядра нации. А для того чтобы это понять, надо думать не только о преимуществах предков, полученных в результате большевистской борьбы с сильной и самостоятельной частью российской нации, но и о перспективах, о будущем своего народа. Чтобы понять, как много потерял твой народ от большевистского эксперимента, необходимо не классовое, а национальное сознание, необходимы органический, глубинный патриотизм, забота о сохранении своей Родины.
Но беда в том, что национального сознания и органического патриотизма нет у тех, кто выиграл в результате смены общественного строя. Все видят, что те, кто наверху, озабочены прежде всего своими личными, семейными интересами. И этот обнажённый эгоизм нашего правящего класса свидетельствует, что и у него на самом деле нет веры в будущее своей страны.
Марксизм, зовущий к классовой борьбе, к насилию и агрессии против врагов рабочего класса, лёг в дореволюционной России на благодатную почву закоренелой ненависти потомков бывших крепостных к высшим сословиям. В новой России, особенно в последние годы, и классовое сознание, и классовая ненависть растут уже как результат осознания чудовищного имущественного расслоения теми, кто оказался вследствие реформ начала 1990-х внизу. Да, в 1990-е годы нуждавшихся, живших за чертой бедности людей было намного больше (по крайней мере в два раза), чем сейчас, но тогда не было активной классовой позиции. Сегодня же изо всех углов слышно: коммунисты хотя бы уважали нас, рабочих и крестьян, а для новой власти мы — не люди. Население в массе возмущено не только новой элитой, у которой всё самое главное в жизни — дети, дома, деньги — «за бугром», но и тем, что наши СМИ, прежде всего телевидение, откровенно игнорируют жизнь простого россиянина. Именно по этой причине в сознании нового поколения и советский строй, и лежащие в его основе коммунистические идеалы выглядят куда более привлекательными, чем новая Россия с её разговорами о том, что свобода лучше несвободы. А нарастание в новой России классовой неприязни успешно эксплуатируют неокоммунисты, защитники красных звёзд и сталинской индустриализации, которые утверждают: «Красные звёзды и Сталин напоминают им (простым людям. — А.Ц.) об эпохе, когда приходилось хотя бы ритуально уважать рабочих и крестьян»2.
Большевики победили, прежде всего, благодаря «отсталости и малокультурности» крестьянских масс. Но и сейчас происходит массовая десоциализация, «расчеловечивание» народа, в первую очередь молодёжи, которая не только живёт вне национальной истории и вне национальной культуры, но, кажется, лишена способности реагировать умом и душой на гуманитарные проблемы. Ведь пугающее массовое равнодушие к преступлениям Сталина и большевистской эпохи в целом идёт и от незнания, что есть добро и зло, от неразвитости той стороны сознания, которая обращена к извечным проблемам человеческого бытия. Такой тип людей восприимчив только к самым примитивным идеям. Наверное, по этой причине у нас одновременно получают широкое распространение мечта о создании этнического русского государства, этнический расизм и преступления на этой почве.
Но за нашим поклонением идеалам коммунизма на самом деле не стоит ничего возвышенного. До Октября, до опыта коммунистического преобразования России, за восприятием идеала как самоценности стояла традиционная российская привычка мыслить в предельно общих понятиях, вне реальности, вне мира сего. Бердяев уже в «Вехах» (1909) обратил внимание на опасность характерной для русского национального сознания привычки «конкретное и частное превращать в общее» и это общее — в надмирные, независимые сущности. Традиционная российская «неотмирность, эсхатологическая мечта о граде Божьем, о грядущем царстве правды» — это то, что в средневековой философии называлось реализмом, то есть верой, что общие понятия существуют вне мира, в котором они воплощаются.
Сейчас же за попытками отделить коммунистический идеал от преступной, античеловеческой практики его воплощения в жизнь стоит, во-первых, наследие советского атеизма — нет греха, нет преступления, а есть идеал. И, во-вторых, наша традиционная российская недооценка самоценности человеческой личности, человеческой жизни вообще.
Кстати, широко распространённое ныне среди российской элиты убеждение, что разговор о человеческой цене прогресса, о «цене модернизации» не имеет смысла, ибо «страдания никогда не были главным обстоятельством в оценках исторического прогресса» (Станислав Рыбас. — А. Ц.)3, разделяют не только патриоты-государственники, но и адвокаты реформ Гайдара.
Когда речь идёт о Сталине, о большевистской эпохе в целом, нынешние коммунисты-патриоты говорят, что общечеловеческой морали нет места при оценке свершений нации. Но, заговаривая об эпохе Ельцина, наши марксисты-ленинцы становятся яростными гуманистами и обращают внимание прежде всего на демографические потери шоковой терапии, подчёркивая: сколько бы людей у нас в России могло родиться, если бы не нищета, не деградация села и производства, вызванные распадом промышленности и аграрного сектора, если бы не взрыв алкоголизма и наркомании. При оценке 1990-х годов они признают моральную ценность не только сограждан, погибших в хаосе того лихолетья, но и тех, кто мог бы родиться и жить, если бы не скачок абортов, спровоцированных неуверенностью мам в будущем своих детей. Но те же политики с хладнокровием профессиональных садистов говорят, что если бы Сталин не забрал у крестьян выращенное ими зерно (если бы не голодомор, унёсший в СССР шесть миллионов людей), то мы бы не построили Днепрогэс.
Под стать лидерам КПРФ сочетает общечеловеческую мораль, ценности гуманизма с социальным дарвинизмом марксизма и наша так называемая либеральная элита. Только на этот раз общечеловеческая мораль применяется при оценке Сталина и его репрессий, а социальный дарвинизм — при оценке своих собственных реформ. О Сталине наши либералы говорят как о садисте, убийце на троне. И они, конечно, правы. Но как только речь заходит о реформах Гайдара, появляется другая, жестокая логика, выраженная в либеральной формуле «хвост кошки не рубят в несколько приёмов». Мол, ничего не поделаешь, чтобы уничтожить неэффективное советское производство, пришлось пойти на неизбежные жертвы. Такое родство мышления не случайно. Всё дело в том, что исходная идейная закваска у всей нашей посткоммунистической элиты — марксизм-ленинизм. И надо отдать должное честности Егора Тимуровича Гайдара, который до конца жизни говорил, что он марксист, что его дедушка, большевик Голиков, был «на уровне задач своей эпохи».
Это совпадение исходной идеологической матрицы всей нашей политической элиты — ещё одно доказательство поразительной укоренённости в новой России марксистской классовой морали, антиморали по существу.
Справедливости ради надо сказать, что марксистская классовая теория, согласно которой нравственно всё, что служит приближению победы коммунизма, легла на домарксистское убеждение революционных народников в том, что счастье будущих поколений строится на костях предшествующих. Не могу не вспомнить: авторы «Вех» в поисках причин вандализма, безумной жестокости ещё в первой русской революции 1905—1907 годов выходят на ту же российскую идеологию жертвенности, за которой стоит всё то же отрицание самоценности человеческой жизни. Но эта свойственная российской революционной интеллигенции идеология жертвенности идёт не столько от христианства, сколько от язычества. Николай Бердяев обращал внимание, что человеколюбие, якобы характерное и для наших народников, и для наших революционных социалистов, «было ложным, так как не было основано на настоящем уважении к человеку, к равному и родному по Единому Отцу»4.
IV
Всё сказанное выше говорит о том, что за декоммунизацией (если к ней относиться с национальных позиций) никакой особой политики нет. Речь идёт о преодолении тех стереотипов, особенностей нашего национального мышления, из-за которых мы оказались в ловушке коммунистического эксперимента, во многом надорвавшего жизненные силы российского народа. Сам по себе анализ причин живучести коммунистических воззрений является просто необходимой работой, направленной на рост нашего национального самосознания, понимания того, кто мы есть и что нам мешает увидеть себя такими, какие мы есть на самом деле.
Конечно, мы всё-таки живём в свободной, демократической стране, где по Конституции «признаётся идеологическое многообразие» и где «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной и обязательной» (Статья 13). Строго говоря, наша Конституция не требует никакой декоммунизации. Народы имеют право на самостоятельный политический и идейный выбор. Надо, однако, понимать, что невозможно долго жить во взаимоисключающей системе ценностей. С одной стороны, исповедовать ценности православной по своей природе великой русской культуры, а с другой — оставаться при марксистском убеждении, что без революции и революционного насилия нет прогресса, что нет преступления, а есть только борьба классов.
И наша политическая элита, и наше периодически «возбуждаемое» телевидением население не понимают, что до тех пор, пока мы сами в своей оценке национальной истории не перейдём на гуманистические ценности, пока будем оставаться на позициях марксистской классовой морали, классового расизма, у нас нет права критиковать и прибалтов, и украинских националистов за возвеличивание героев антисталинского сопротивления, тех, кто сотрудничал с гитлеровской армией. Надо понимать, что Нюрнбергский процесс, осудивший фашистские преступления, был основан на ценностях христианской морали, европейского гуманизма, учения о моральной равноценности каждой человеческой личности. Но вся проблема в том и состоит, что наша политическая элита (а вместе с ней и управляемое большинство) использует двойные стандарты морали. В оценке своей, советской истории остаётся на позициях классовой морали, оправдывая и насилие Октября, и насильственную коллективизацию, и голодомор интересами социалистической индустриализации, а прибалтийских и украинских националистов, возвеличивающих «лесных братьев», судит на основе морали Нюрнберга.
Но, наряду с требованиями человечности, которые побуждают относиться к нынешней ностальгии по сталинским временам как к болезни духа, свидетельству морального кризиса, есть ещё и другие соображения, вынуждающие всерьёз заняться декоммунизацией. Народ, который наивно верит, что можно достичь полного равенства, навсегда преодолеть различия между богатыми и бедными, отказаться от экономических стимулов к труду: денег, собственности и т.д., попросту лишён здравого смысла, а стало быть, и шансов выжить в нынешнем абсолютно практичном, построенном на предельной целесообразности мире.
Сталиномания и советомания вообще закрепляют наш ментальный фатализм, дефицит способности к альтернативному мышлению, без которого тоже невозможно обойтись. И снова моральное здоровье, как выясняется, тесно связано со здоровьем ума. Ведь мораль жёстко связана с идеей свободы выбора, с самой возможностью поступить по совести и не по совести, с наличием альтернативы в поведении людей. Но наша русская беда состоит в том, что нам больше свойственен фатализм, больше свойственно понятие, выражающееся в словах «человек предполагает, а Бог располагает». Мол, нет смысла осуждать то, что было дано нам сверху, чего нам, людям, невозможно было избежать. Я согласен с мнением Анатолия Бернштейна и Дмитрия Карцева, что нынешняя сталиномания идёт не только от нашей традиционной привычки ставить «величие идеала» выше страданий людских, но и от убеждения в безальтернативности прошлого России5.
История не имеет сослагательного наклонения, в этом убеждена подавляющая часть нашей постсоветской интеллигенции. А если всё дано свыше, то нет необходимости не только судить нравственным судом события своей истории, но и задумываться об их причинах, о том, как избежать в будущем уже однажды пережитых катастроф. Однако и в «Вехах», и в сборнике «Из глубины» (1918) русские философы писали о том, что наш традиционный фатализм на самом деле не имеет ничего общего с христианством, в основе которого лежит идея свободы воли, свободы выбора, а значит, и ответственности за свой выбор. Согласно христианской доктрине, возможность спасения предоставлена каждой божьей твари, и не только отдельному человеку, но и целому народу. Да, наш традиционный русский фатализм позволял переносить тяготы жизни и истории, с фатализмом связано российское долготерпение. Но не надо забывать, что с фатализмом связаны и наша пассивность, нежелание мыслить самостоятельно, самим доискиваться до истины, брать ответственность за свои выводы на себя.
И, наконец, в ряду ментальных причин, которые помогают живучести коммунистического взгляда на мир и мешают нам стать современными людьми, я бы назвал дефицит способности связать естественную гордость за достижения своей страны с моральной оценкой своей истории. И дело не только в том, что в силу национального самолюбия не хочется говорить вслух о неудачах и тем более о таких страшных вещах, как преступления выбранной власти, направленные против собственного народа и против других народов. Дело ещё и в том, что у нас сложилась идущая от Константина Леонтьева (1831—1891) традиция разграничивать патриотизм, эмоциональное сопереживание величия России и моральную оценку существующего строя, моральную оценку деятельности её правителей. Константин Леонтьев оправдывает жестокость и античеловечность российского крепостного права точно так, как патриоты КПРФ оправдывают сегодня репрессии Сталина. Нельзя одновременно, настаивал К. Н. Леонтьев, осуждать русских царей за уродства сохраняемого ими крепостного права и гордиться величием России. «Пора же, наконец, сознаться громко, — писал он, — что и вся Россия, и сама царская власть возрастали одновременно и в тесной связи с возрастанием неравенства в русском обществе, с утверждением крепостного права…»6. От К. Н. Леонтьева идёт характерное для нынешних патриотов левого толка, как правило, возвеличивающих Сталина как крупнейшего российского государственника, убеждение, что или величие России — или уважение к правам человека.
V
Как будто нарочно, в современной России ожили все концепты политического мышления, нейтрализующие нравственные чувства, лишающие многих россиян способности увидеть противоестественность и большевистской идеологии, и большевистского эксперимента. И иезуитское «цель оправдывает средства», в российской интерпретации «лес рубят — щепки летят». И наша русская интерпретация средневекового реализма, сопереживание идеала, идеологической конструкции как особой, независимой от мира сего реальности. И наш русский фатализм «на все воля Божья», и наша державность, нарочито игнорирующая человеческую цену побед, и, самое главное, наше русское пренебрежение к человеческой жизни, оправдание привычки «сорить людьми».
И ещё одно кричащее противоречие нынешней идеологической ситуации. С одной стороны, в публичных выступлениях наших лидеров присутствует активная антикоммунистическая, антитоталитарная позиция. В своей первой статье «Россия на рубеже тысячелетий»7 В. В. Путин как преемник Б. Н. Ельцина назвал избранный в 1917 году путь «тупиковым», из-за которого мы больше потеряли, чем выиграли. В дальнейших его оценках и большевизма, и сталинской эпохи присутствует убеждение, что мы имеем дело с «историей народа России, судьбу которого исковеркал тоталитарный режим». Путин говорил и о том, что успехи сталинской индустриализации привели к уничтожению «русского крестьянства». Д. А. Медведев не раз заявлял, что никакими экономическими соображениями нельзя оправдать преступную практику массовых репрессий. Но! И тот же Путин, и тот же Медведев, как только речь заходит о 9 Мая, вопреки своим убеждениям, практически не говорят о том, как Сталин сорил людьми, двигаясь к Победе в Великой Отечественной войне.
Так мы и живём. С одной стороны, публичное осуждение преступлений сталинского тоталитарного режима, а с другой — сближение понятия «победа» с понятием «социализм», с именем Сталина. Декоммунизация невозможна, когда новая российская идентичность накрепко привязывается к совершённой под руководством Сталина Победе в Великой Отечественной войне. Если послушать, как многие наши СМИ комментируют Победу, то в сознании всплывает старое: «за ценой не постоим», «русские бабы снова нарожают нам солдат». Обращает на себя внимание тот факт, что рост год от года (за последние десять лет с 31 до 35 %) количества россиян, считающих, что «какие бы ошибки и пороки ни приписывались Сталину, самое важное, что под его руководством наш народ вышел победителем в Великой Отечественной войне»8, как раз и вызван политикой гламуризации Победы.
Существуют, конечно, объективные причины, в силу которых новая, антикоммунистическая власть празднует юбилеи Победы 1945 года в два раза чаще, чем даже во времена Брежнева, — раз в пять лет, и бросает все свои медийные ресурсы на возвеличивание её блеска в глазах новых поколений. Запрос на гламур Победы, от которого отказался ещё Хрущев в середине 1950-х годов, идёт и снизу и сверху. В условиях нынешнего идеологического кризиса, когда старые идеологические мифы потускнели (в возможность построения коммунизма не верят даже лидеры КПРФ), а новые, типа «русской идеи», не приживаются, когда нет никаких реально ощутимых побед в жизни, единственно твёрдой, достоверной точкой опоры для пробуждающегося национального сознания становится непререкаемая историческая истина решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии во Второй мировой войне. Новой власти весь этот гламур 9 Мая, все эти посиделки с ветеранами необходимы для укрепления своей легитимности, для зримого утверждения своей связи со всем, что свято для народа. Власти кажется, что в условиях постоянного празднования больших и малых юбилеев великой Победы ей легче доказать свою связь с народом.
За нежеланием новой России знать и страшную правду о сталинской эпохе, и трудную правду о войне 1941—1945 годов стоит страх потерять веру в последнее, на что может опереться пробуждающееся национальное сознание. И чем ниже уровень исторической, гуманитарной культуры общества, тем выше этот страх, тем больше людей раздражает правда о сталинизме, о моральной и экономической несостоятельности советской системы в целом. Стихийно, прежде всего снизу — и в этом я тоже вижу новизну складывающейся идеологической ситуации, — возникает запрет не только на критику, но и на исследование природы большевизма (и сталинизма как его разновидности), на исследование того, что характерно для всех тоталитарных систем. Покушение на достоинство сталинской эпохи стало восприниматься как покушение на великое, на Победу. Вот почему с каждым новым празднованием очередного юбилея Победы возрождается и получает всё более широкую поддержку в обществе старая советская, закреплённая в учебниках истории КПСС вера, что только социализм как «передовой общественный строй» мог обеспечить условия для Победы 1945 года.Вот почему выходит из идеологического оборота, так и не укоренившись в обществе, точка зрения, согласно которой мы победили не благодаря, а вопреки системе, благодаря тому, что война из сражения во имя «сохранения завоеваний социализма» превратилась в национально-освободительную, в Отечественную войну.
За убеждением, что Победа в Великой Отечественной войне — и только она — является «фундаментом земли Русской», стоит и наследство советской образованщины, и национальный нигилизм советского человека. Русскому человеку, осознающему величие побед русского духа, погружённому всем своим сознанием в мир идей, поднятых великой русской литературой, а тем более русскому человеку, пришедшему к Богу, куда проще впустить в себя трудную правду о Победе, чем тем, кто, кстати не по своей вине, оказался лишённым и культурной и национальной памяти. Появившееся у бывшей советской интеллигенции убеждение, что русские являются, прежде всего, «нацией воинов», идёт от незнания и истории Русской православной церкви, и истории русской общественной мысли. Русские были, прежде всего, нацией духовного подвига, великих достижений культуры.
Думаю, нынешней власти надо ещё раз взвесить все плюсы и все минусы гламуризации Дня Победы. Преступно предавать забвению великий подвиг народов СССР, внёсших решающий вклад в разгром фашистской Германии. И действительно, никогда в истории России не проявлялись так мужество, жертвенность и отвага русского солдата, как в годы Великой Отечественной войны. Но преступно и скрывать от новых поколений страшную правду об этой войне, о подлинных ошибках и просчётах Сталина, поставивших страну на грань поражения в 1941 году, приведших к гибели миллионов людей, о том, что часто мы воевали не умением, а числом, что русское, сталинское «за ценой не постоим» обошлось нам страшными, невиданными потерями. Надо в конце концов понять, что нынешняя политика гламуризации 9 Мая ведёт к ещё большему укоренению описанных выше ментальных особенностей, которые мешали и до сих пор мешают очеловечиванию нашей русской жизни. Вы никогда не убедите в самоценности человеческой жизни общество, в котором люди отвыкли — не хотят! — думать о страшной, апокалипсической цене сталинской Победы. Не менее опасно и то, что нынешняя сакрализация Победы, забвение окопной правды о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов мешает формированию естественного для духовно развитого человека отторжения от крови, от ужаса насильственной смерти, всего противоестественного, что несёт с собой война. Гламуризация Победы становится препятствием на пути не только нравственного развития современной России, но и её умственного развития. Гламуризация Победы закрепляет ту леность мысли, которая мешает декоммунизации и десоветизации России, и прежде всего закрепляет безальтернативность нашего мышления.
И это ещё одно подтверждение исходного тезиса моей статьи, что смысл декоммунизации и десталинизации не в самом развенчании образа советской эпохи как эпохи великих исторических свершений, а в искоренении всех тех стереотипов нашего национального мышления, которые стали питательной почвой для победы большевиков и которые стоят за гибелью, муками, страданиями тех, кто стал жертвой нашего коммунистического эксперимента. Шопенгауэр говорил, что не может быть добрым человек, который жестоко обращается с животными. Но нельзя же не видеть, что поклоняться, восхищаться Сталиным могут только жестокие, лишённые сердца люди. Если бы в русской жизни не было разлито много жестокости, не смогли бы большевики развязать одну из самых кровавых в истории человечества гражданских войн. Нельзя же не видеть, что человек рабски, покорно воспринимающий и сталинизм и ужасы его эпохи, мыслящий по принципу «иного не дано», не сможет развить в себе самостоятельность активного, критического отношения к власти, без чего невозможно становление гражданского общества.
Декоммунизация предполагает духовную революцию, переход от нынешнего патриотизма символов, не требующего ни мысли, ни работы души, к содержательному, сознательному патриотизму. Нынешний патриотизм символов целиком устремлён на факты и события национальной истории, которыми можно гордиться. Патриотизм ума, содержательный патриотизм, предполагает внесение созидательного содержания в те или иные события национальной истории, выяснение того, что они дали для сохранения нации, для укрепления её жизнеспособности, потенции самосовершенствования, саморазвития. Как только вы посмотрите на все успехи сталинской индустриализации глазами будущего с точки зрения жизнеспособности российской нации, то обнаружите, что избранный нашими предками вариант модернизации через насилие, путём насилия на самом деле подорвал жизненные силы русского народа. Неужели не понятно, что нынешняя умирающая русская деревня, массовый алкоголизм, уничтожающий мужское население Центральной России, — это результат насильственной коллективизации?! Моральный подход к национальной истории, заставляющий думать о человеческой цене прогресса, — это нормальный рациональный подход, ибо победа, подорвавшая жизненные силы народа, в долговременной перспективе может оказаться его поражением. Валентин Распутин (и не он один) считает, что русская нация не выдержала двух таких ударов, как сталинская индустриализация и огромные людские потери во время войны 1941—1945 годов, и в результате надорвалась.
Декоммунизация — прежде всего, призыв любить и ценить себя, свой народ, беречь его таланты, жизненные силы. И понимание это уже растёт. Понимание того, что весь коммунистический эксперимент был ловушкой, которая высосала наши жизненные силы и оставила нас у разбитого корыта. Для того чтобы обезопасить социалистическую утопию от реальных и потенциальных врагов, большевики сначала выслали наиболее умных и одарённых людей, а потом постарались выкосить всех, кто обладал достоинством и способностью к самостоятельному мышлению. И чтобы сохранить власть утопии, право называться страной-первопроходцем, мы были вынуждены на протяжении семи десятилетий противостоять всей современной человеческой цивилизации, мучить миллионы людей дефицитом, государственным крепостным правом и тратить огромные, непомерные ресурсы на гонку вооружений.
Комментарии к статье
1 «Независимая газета», 2011, 15 мая, с. 10.
2 Замостьев А. Искоренители переживаний. — «Литературная газета», 2010, № 51.
3 Цитируется по: Бернштейн А., Карцев Д. Оправдание цели. — «Время новостей», 2009, 26 октября.
4 Вехи. Из глубины. — М., 1990, с. 18.
5 Бернштейн А., Карцев Д. Оправдание цели. — «Время новостей», 2009, 26 октября.
6 Леонтьев К. Н. Избранные статьи. Цветущая сложность. — М., 1992, с. 298.
7 «Независимая газета», 1999, 30 декабря.
8 Каменчук О. Страну лишили исторической памяти. — «НГ-Политика», 2011, 17 мая.