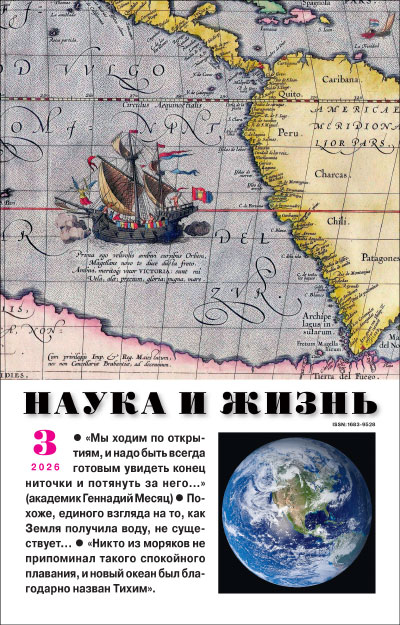Знают его также биологи (курьёзно — когда появились работы Гельфанда по биологии, некоторые специалисты интересовались, имеет ли этот биолог какое-либо отношение к знаменитому математику Гельфанду).
Но Гельфанд-педагог известен гораздо меньше. У него нет ни статей по педагогике, ни школьных учебников, он не разрабатывал программы. И тем не менее очень многие считают себя его учениками. Можно сказать, что учениками Гельфанда становились все, кому довелось с ним общаться, даже просто присутствуя при какой-то беседе. Один человек, попавший в «сферу влияния» Гельфанда, сказал: «Когда Гельфанд с тобой разговаривает, то чувствуешь, что в данный момент ты для него самый интересный и важный человек во всём мире». Теперь, вспоминая свои впечатления от общения Гельфанда с разными людьми, я поняла, что секрет его воздействия на людей можно выразить одним словом: неравнодушие.
Второго сентября 2013 года исполнилось сто лет со дня рождения Израиля Моисеевича Гельфанда — одного из крупнейших учёных ХХ века.
Что такое хороший учитель
Один из учеников-сотрудников Гельфанда, проработавший десяток лет в школе, как-то сказал: «Чтобы быть учителем, нужно: знать свой предмет, уметь учить (то есть владеть педагогической техникой) и любить детей». Израиль Моисеевич задумался на несколько секунд и сказал:
«Нет, я не согласен. Это нужно, чтобы быть просто учителем, а чтобы быть хорошим учителем, нужно:
во-первых, любить свой предмет,
во-вторых, любить учить и,
в-третьих, любить тех, кого учишь».
Эта триада — своеобразное педагогическое кредо Гельфанда.
«Любить свой предмет». Часто математика представляют этаким «сухарём», рассеянным, погружённым в какие-то непонятные отвлечённые рассуждения, в общем, не от мира сего. А математику считают формальной наукой, нужной разве лишь для того, чтобы вычислять проценты.
Ничего более далёкого от действительного Гельфанда нельзя придумать. Математики о нём говорили: «Гельфанд был в своём роде магом. Мир скучных цифр, формул, уравнений он каким-то таинственным образом превращал в поразительно красивый»2. «Хотелось поучаствовать в маленьком чуде. Представьте, обсуждается сложнейший вопрос, не знаешь, как к нему подступиться. И вот на твоих глазах Гельфанд начинает «шаманить», чуть повернёт задачу то одной гранью, то другой. И всё в форме изящной игры, сдобренной шутками, анекдотами, афоризмами. Зал втягивался в игру, превращаясь в своего рода коллективный мозг. И в итоге удавалось продвинуться в решении задачи»3.
Вот как Гельфанд решил задачу, которую мощнейший математический институт брался одолеть за полгода. Нужно было понять причину неравномерного обгорания сопла реактивного двигателя, из-за которого ракета заваливалась. Гельфанд нашёл изящную и простую модель явления: горящая свеча под восковым потоком выжигает в нём лунку. И решил задачу за один вечер.
Математику Гельфанд воспринимал как часть культуры: «Для человеческого интеллекта правильное отношение к математике играет такую же роль, как восприятие музыки, поэзии… Человек, умеющий слушать музыку, получает от этого удовольствие, хотя вовсе не обязан быть музыкантом. Если же музыка для него не существует, то огромная часть культуры для него потеряна и духовный мир такого человека обеднён. В этом смысле математика нужна каждому человеку…» Однако он предостерегал: «…ограниченность, замыкание только в узких рамках специальности для учёного — если не смерть, то хроническая болезнь, ведущая к преждевременному старению».
Свою позицию Гельфанд подтверждал на деле. Так, когда ему предложили вести дополнительные занятия в двух математических классах московской Второй школы, он прежде всего поинтересовался, кто преподаёт в них литературу. Там работали Раскольников и Збарский, учителя замечательные, но разные по стилю преподавания, во многом даже антиподы. Израиль Моисеевич подолгу разговаривал с ними, участвовал в их горячих и частых спорах. Как-то он даже организовал эксперимент: при изучении одной из тем учителя поменялись классами, а потом все — и педагоги и ученики — обменивались впечатлениями, сравнивали, спорили.
А когда к нему привели маленькую девочку, которая решала трудные задачи по программе старших классов и тоненьким голосочком доказывала теоремы, и родители спросили, как развить её способности, Гельфанд сказал: «Отдайте её в балетную школу». У родителей хватило ума и чувства юмора последовать этому совету (правда, они предпочли фигурное катание). Девочка выросла и стала хорошим математиком.
Много лет спустя, обращаясь к ученикам Второй школы, Гельфанд сказал: «Я хочу отметить четыре важнейшие черты, общие для математики, музыки и других наук и искусств: первое — красота, второе — простота, третье — точность и четвёртое — безумные идеи».
«Любить учить». Как-то Гельфанд сказал, что математик — это не тот, кто может заниматься математикой, а тот, кто не может не заниматься ею. Можно сказать, что и учитель — это тот, кто не может не учить. В этом смысле сам Гельфанд — настоящий математик и настоящий учитель. Он был готов учить каждого, кто проявлял интерес к математике, от маленьких детей до своих титулованных коллег.
Надо сказать, что он любил не только учить, но и учиться, и говорил, что главная его сила — в умении всегда учиться, в том числе у своих учеников. «NN гораздо способнее меня, но я сильнее, потому что всё время учусь».
Этого же — умения и стремления учиться — Гельфанд требовал и от других. Он считал, что учитель, который перестал учиться, не настоящий учитель. Так, во Второй школе семинары по решению задач были для учеников необязательны. Но от учителей, которые с ними работали (и от меня тоже. — Е. Г.), Гельфанд требовал участия в семинарах, причём в качестве учеников, чтобы они не только присутствовали, но и решали те же задачи.
Разумеется, многим пришлось преодолеть свой комплекс: «Как это я буду решать задачи вместе с учениками? А вдруг они решат, а я нет?» Такой учитель порой начинает потихоньку использовать только задачи, которые сам наловчился решать. А при этом он перестаёт совершенствоваться сам и задерживает развитие учеников.
На самом же деле учитель, который на твоих глазах решает задачу, не бросает её, хотя она не выходит, добивается результата, — такой учитель не роняет свой авторитет в глазах учеников, а вызывает у них уважение.
«Любить тех, кого учишь». Как-то на замечание, что, мол, нужно давать в школе строгое изложение математики, Гельфанд парировал: «Кому нужно? Вам или ученикам?» Он, математик, ставил на первое место в обучении интересы ученика, а всё остальное — математическую строгость, требования чиновников от образования, удобство проверки (например, ЕГЭ) и прочее — считал, пользуясь удачным выражением одного из своих коллег, О. С. Ивашова-Мусатова, «обходимым и недостаточным».
Гельфанд не мог смотреть, как ребёнка губят неправильным обучением, и часто поминал рассказ Чехова о котёнке, которого насильно учили ловить мышей. Котёнок, став солидным котом, при виде мыши пугался и удирал. Таким, увы, нередко бывает и результат преподавания, которое сводится к разучиванию доказательств теорем и механической тренировке в математической технике. Подход Гельфанда совершенно иной: «Обучение должно доставлять удовольствие».
А как это сделать?
Однажды при мне Гельфанда спросили, как увлечь ребёнка математикой. Он сказал: «Надо давать хорошие задачи». Я со свойственным мне занудством тут же спросила: «А какие задачи хорошие?» Помедлив несколько секунд, Гельфанд ответил: «Хорошие задачи — это интересные и лёгкие».
Так и начинались занятия во Второй школе. Сам Гельфанд раз в неделю читал сразу двум классам лекции. Их содержание составляли интересные математические темы, например устройство четырёхмерного куба, «волшебная сберкасса» (фактически введение числа «е») и т.п. Посещение лекций в первом полугодии было необязательным. Правда, ходили почти все — да и как не пойдёшь, если преподаватель литературы (он же классный руководитель), сообщая о необязательности лекций, добавлял: «Конечно, вряд ли найдутся дураки, которые не пойдут слушать Гельфанда». А когда он читал лекцию, школьники видели перед собой человека, увлечённо занимающегося чем-то чрезвычайно важным и интересным. И срабатывал великий «принцип Тома Сойера»4.
Параллельно с лекциями шли так называемые семинары, которые вели ученики и сотрудники Гельфанда. Эти занятия тоже были необычными: не было ни опроса, ни домашних заданий. Просто давалось много разных интересных задач, трудных и не очень, и каждый выбирал, какую хотел, оценки не ставили, и если кто-то задачу не решал, его не ругали.
Целью семинаров было показать ученикам, что можно заниматься математикой не для оценки и даже не для того, чтобы сдать экзамен в вуз, а просто для удовольствия. И конечно, именно им школьники уделяли больше всего внимания, даже вне уроков постоянно обсуждали между собой и с преподавателями задачи. Мало кто хотел просто узнать решение: это было бы нравственным крахом. Считалось неприличным не то, что ты не можешь осилить задачу, а то, что не хочешь решить её сам.
Постепенно школьники начинали понимать, что одна задача, которая сначала не получается, а потом наконец решается, ценнее и, главное, интереснее, чем десять «отщёлканных» стандартных примеров. И возникало ни с чем не сравнимое ощущение: когда наконец вдруг всё, «как коронка на зуб» (сравнение Маяковского), встаёт на своё место и оказывается ясным, простым и красивым. И эта радость преодоления действовала на детей гораздо сильнее всяких «кнутов и пряников», они видели (пока краешком глаза) красоту и простоту математики.
«Математик — это тот, кто понимает»
Но красота и простота — это ещё не всё. «Работая с ребятами во Второй школе, я лучше понял, что математика — это не спорт. Надо не просто уметь решать трудные задачи, а понимать математику», — писал Израиль Моисеевич.
Поэтому во втором полугодии, когда ученики были уже, что называется, «на крючке», наступал другой этап: чтобы слушать лекции, нужно написать заявление. Требование означало, что ученик уже сам решил заниматься всерьёз. В этом отношении Гельфанд был очень строг, не терпел никакой халтуры. Студентку-первокурсницу он ругал: «Ты не имеешь морального права заниматься спустя рукава, ты прошла по конкурсу, кто-то из-за тебя не смог учиться, ты занимаешь его место!»
Сейчас много говорят о правах детей. А я думаю, что не худо бы вспомнить и об их обязанностях. Например, обязательное среднее образование — оно для кого обязательное? Похоже, что только для государства и родителей, а «дитятко» с паспортом в кармане порой ведёт себя так, будто делает величайшее одолжение одним только своим присутствием в классе.
Теперь характер занятий изменился. Вместо отдельных интересных математических «эпизодов» и разнообразных задач на семинарах и на лекциях подробно разбиралась по существу одна тема: предел последовательности. И по ней нужно было сдавать зачёт.
Такое резкое ограничение содержания следовало из убеждения Гельфанда, что «лучше понять немногое, но до конца». «Если рассказать им слишком много трудного сразу, то с некоторого момента они садятся тебе на шею и перестают понимать простейшие вещи. А спрашивать с них нужно ещё меньше — но уж спрашивать дотошно, как следует».
Под «спрашивать дотошно» Гельфанд подразумевал, что от учеников требовался не простой пересказ того, что они услышали и запомнили, а что и как поняли. Ведь без понимания результат обучения математике сводится к запоминанию набора готовых формул и «заклинаний» (вроде «на нуль делить нельзя») и умению выполнять разные «манипуляции» (например, приводить подобные члены), а Гельфанд говорил: «Математик — это тот, кто понимает».
Но оказалось, что прежде, чем научиться понимать, надо научиться не понимать! Гельфанд демонстрировал это не только школьникам: тех, кто бывал на его семинарах (как математических, так и биологических), поражало виртуозное умение Гельфанда «не понимать», что ему объясняет докладчик. Постепенно и участники семинара, и сам докладчик осознавали, что они этого не понимают, и тут-то и начиналось настоящее прояснение вопроса.
Умению не понимать и не скрывать этого Гельфанд и учил школьников. Дойдя на лекции до трудного места, он, зная, что его не все могут понять сходу, прямо спрашивал, понятно ли. Обычно все молчали, что должно было означать «да, понятно». Тогда он поднимал с места кого-нибудь из не очень сильных (точнее, не из самых бойких) учеников и начинал подробный разбор: «Я сказал то-то и то-то, понятно?» Кивок. «Так. Повтори». Оказывалось, не может. «Пойдём к началу. А вот это понятно?» Не совсем. «Прекрасно. А что именно непонятно?» — допытывался до тех пор, пока ученик не сумеет сформулировать конкретный вопрос. Тогда Израиль Моисеевич обращался к «асам», и оказывалось, что они просто не обратили внимания на этот вопрос. В итоге восстанавливалась цепочка пропущенных рассуждений. Так школьники учились самостоятельно искать наводящие вопросы, видеть, что значит действительно понять до конца, и убеждались, что они очень многое «понимали» только в кавычках.
Я не раз, слушая эти разговоры Израиля Моисеевича с учениками, вспоминала, как кто-то говорил, что-де пусть студенты ничего не понимают — потом привыкнут. По-моему, с этого и начинается превращение людей в винтики. Они «привыкают» принимать всякую информацию без рассуждений, не обдумывая, — то-то раздолье административно-командному стилю!
Изменились и семинары. Снова давались серии задач, но уже с одной целью: подвести учеников к определению понятия предела, то есть, не давая определения, объяснить, что такое предел. Это полностью шло вразрез с традиционным подходом. В математике считается естественным введение нового понятия начинать с его определения. Но подумайте: ведь сами-то математики не могли дать определения предела, если они ещё не поняли, что это такое! А детей заставляют. Нехорошо.
На лекциях о пределах долго не говорилось ни слова: Гельфанд ждал, когда ученики станут достаточно подготовлены семинарскими занятиями. Сам же он показывал, как устроена математика, что такое её точность, и учил их математическому языку. При этом считал, что знать всю систему математики школьного курса и требовать её соблюдения во всех деталях «на пятёрку с плюсом» нужно только в математических классах. В других случаях достаточно понимать, как строится такая система, и уметь её построить на конкретном примере. А так как он считал, что новое надо вводить на простом, уже знакомом материале, то в качестве примера выбрал число. «Число привычно для ученика, поэтому на числах проще понять устройство математической теории».
И первую лекцию во втором полугодии Гельфанд начал с вопроса: «Что такое число?» И продолжал: «Разные люди ответили бы на этот вопрос вроде бы по-разному. Русский сказал бы: один, два, три… и написал 1, 2, 3… Француз — эн, де, труа… и написал бы то же самое. А японец сказал бы: ити, ни, сан… и нарисовал три сложные картинки. Но что такое число, все они понимали бы одинаково: попросту говоря число — это что-то такое, что можно складывать и умножать, соблюдая некоторые правила».
А дальше последнюю фразу он переводил на математический язык: вместо «Числа можно складывать» говорил: «Любым двум числам ставится в соответствие одно определённое число», а на доске появлялось: а + b → c и т.д. Записывались «правила» — известные всем свойства сложения и умножения. Далее, как положено, давались определения нуля и единицы: а + 0 = а и а × 1 = а. Потом появилась первая задача: «Доказать, что ноль только один», то есть доказать, что если есть другое число 0′, обладающее определяющим свойством нуля (то есть а + 0′ = а), то 0′ = 0. Эту задачу решали на лекции, а следующую — «Доказать, что а × 0 = 0» — предлагалось решить дома, но не «к следующему уроку», как в школе, а когда кто сумеет. А когда были введены отрицательные числа, Гельфанд дал своим девятиклассникам домашнее задание: «Написать учебник алгебры для 6-го класса» (то есть дать все необходимые определения, используемые в курсе математики для него, и полностью доказать все формулы, давая ссылки на каждый шаг), а после введения дробных чисел — учебник для 7-го.
Казалось бы, зачем девятиклассникам рассказывать об этих давно знакомых им вещах? Да именно для того, чтобы на уже хорошо известном им примере показать принцип аксиоматического построения математики и дать им на собственном опыте почувствовать, как после введения аксиом все остальные свойства и правила определяются однозначно.
Но чтобы дать определение предела, требовалось ещё овладеть специальным языком. И вот однажды он пришёл на лекцию и сказал как будто ни с того ни с сего: «Ученики должны показывать свои тетради учителям». А потом спросил: «Что означает эта фраза? Ничего не означает...» И привёл несколько примеров. Она может означать, что «каждый ученик должен показывать каждую тетрадь каждому учителю». А может означать: «у каждого ученика есть такая тетрадь, которую он должен показывать любому учителю» или «для каждого ученика есть учитель, которому он должен показывать любую тетрадь» и так далее. После того как ученики усвоили разницу между этими утверждениями, Гельфанд вводил кванторы и их обозначение: («любой») и («существует»), то есть заменял «разговорные» слова точными символами и уточнял с их помощью формулировки определения нуля и единицы:
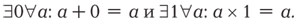 .
.
А ученикам давал задание составить дома все возможные варианты фразы «ученики должны показывать тетради учителям» с использованием кванторов и разъяснить смысл каждого из полученных утверждений.
В итоге, после того как было дано представление о пределе и усвоен необходимый язык, ученики сами могли точно сформулировать определение предела. И Гельфанд торжественно провозгласил, что они перешли на другой уровень и теперь с ними можно разговаривать о математике на другом языке.
«Безумные идеи»
Не могу ничего сказать относительно «безумных идей» в математике, но в педагогике идея Заочной математической школы (ВЗМШ) — его главного детища и своеобразного памятника ему — выглядела вполне безумной. Подумайте только: любой школьник «от Москвы до самых до окраин» получает возможность стать учеником Гельфанда, и не только его!
В работе этой школы наиболее полно проявилась «педагогическая идеология» Гельфанда. Ведь преподавание во Второй школе — это, при всей его значимости, всего лишь отдельный эпизод, причём в исключительных условиях математического класса столичной школы, а ВЗМШ — нечто совсем другое. И дело не только в масштабах (хотя в школе занятия охватили всего около полусотни ребят, а уже первый приём в заочную школу составил 1442 человека). Гораздо более существенно, что во Второй школе Гельфанд имел дело с уже некоторым образом отобранными учениками (хотя бы уже тем, что они обучались в столичной спецшколе).
А в заочной школе могла учиться не только какая-то особо одарённая молодёжь — будущее и гордость отечественной науки, а обычные дети из любых уголков страны, вплоть до «буранных полустанков». Но Гельфанду как раз был нужен именно такой «контингент», ведь он всегда подчёркивал: «Я не спортивный тренер, а физкультурный врач. Не “леплю” чемпионов олимпиад, этаких “решателей задач”».
Вчитайтесь в слова Гельфанда: «По моей внутренней философии — ранее бессознательной, а теперь чёткой — я считаю, что математика помимо своего прикладного — в физике, инженерии, компьютерах и так далее — имеет значение и в области чистого интеллекта. Это хорошо понимали греческие философы, но это понимание было утрачено в последнем, технократическом столетии. Для человеческого интеллекта правильное отношение к математике играет такую же роль, как восприятие музыки, поэзии и других недоходных или малодоходных областей человеческой деятельности. Поэтому я всегда старался, чтобы красота математики доходила и до тех людей, которые никогда в жизни больше заниматься ею не будут».
А ведь в ВЗМШ кроме тысяч школьников учились также и школьные учителя: сразу после создания школы в ней появились так называемые коллективные ученики, то есть кружки, с которыми педагоги работали по пособиям заочной школы и под её руководством. И это очень важно: школьник окончит школу и уйдёт, а учитель-то останется и будет использовать всё, что получил от заочной школы, в работе с другими учениками.
Конечно, Гельфанд не мог сам лично учить каждого ученика заочной школы, но содержание обучения в ней определялось пособиями, специально написанными для неё. А первые пособия Гельфанд написал сам в соавторстве со своими учениками-сотрудниками. В книжке «Метод координат» ему удалось провести учеников от простейшего материала «Координаты на прямой» до геометрии четырёхмерного пространства. И он радовался как ребёнок, когда мы показали ему первую тетрадь с выполненным заданием, где была нарисована развёртка четырёхмерного куба: «Подумать только: девочка, живущая в какой-то Косой горе, смогла решить такую замечательную задачу!»
Но содержание — это ещё полдела: важно не только (а может быть, и не столько) чему учить, сколько как учить. С одной стороны, заочное обучение имеет то преимущество, что оно индивидуальное и легче обеспечивает дифференцированный подход. С другой стороны, чем заменить, хотя бы отчасти, живое общение ученика и учителя? Ведь именно в таком общении Гельфанд и учил своих учеников самому главному — пониманию.
В заочной школе ухитрились в какой-то мере осуществить такой же подход к обучению. Как на своих лекциях Гельфанд никогда не отвечал ученику прямо на его вопрос, а заставлял думать и самому дойти до ответа, так и в заочной школе проверяющему запрещалось исправлять ошибку в работе ученика. Он должен был лишь отметить её и дать такое указание, чтобы ученик, во-первых, понял свою ошибку, а во-вторых, сумел бы сам её исправить, до конца решить задачу, и ещё раз прислать уже исправленное решение. Иногда требовалось два-три цикла, чтобы ученик получил «зачёт» по теме (кое-кто таким же образом добивался повышения оценки).
Как правило, в конце проверяющий писал ученику короткую неформальную рецензию — по сути, личное письмо с общими советами. Во многих случаях возникала переписка — личное общение ученика с учителем выходило за рамки заданий. Таким образом, за почти пятьдесят лет работы заочной школы5 выработалась своеобразная методика «проверки» работ школьников (слово «проверка» взято в кавычки, потому что в ВЗМШ она на самом деле превратилась в продолжение обучения).
О заочной школе можно было бы писать очень много, но мне кажется, что она заслуживает отдельного разговора.
●
Я думаю, что если бы Израиль Моисеевич прочёл эту статью, он бы удивился: «Ты считаешь, что я, читая лекции школьникам, какие-то там принципы реализовывал? Ничего подобного, моя цель была важнее: детей получше научить».
Действительно, Гельфанд вроде бы не открыл ничего нового. Давно известно, что надо идти от простого к сложному, что «лучше меньше, да лучше» и т.д. Заслуга Гельфанда в том, что он на деле поставил во главу всех «принципов» интересы ученика и показал, как учить самому «страшному» школьному предмету, чтобы это доставляло удовольствие.
Можно сказать, что математика Гельфанда-педагога — это математика с человеческим лицом.
Комментарии к статье
1 «An Equation for Success», «The New York Times», 2003, 5 окт.
2 Медведев Ю. Цит. по: «Моцарт от математики» // «Российская научная газета», 2003, 3 сент., № 33 (36).
3 Вершик А., там же.
4 Имеется в виду эпизод, когда Том, крася забор, притворился, что ему очень нравится это занятие, и в результате «разбогател», продавая его другим мальчишкам.
5 К сожалению, заочная школа не дожила до своего юбилея: в апреле этого года РАО её закрыла, вероятно, за ненадобностью (или не доходностью?).