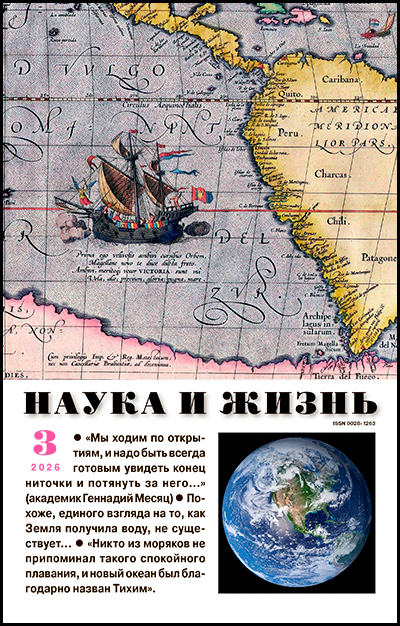ДЖАЗ
#1#
В нашем городе звучала симфония, но она была лишена изящества и формы. Она начиналась с тишины, тьмы и сна. И по мере того, как город пробуждался и наступал день, музыка и ритмы симфонии становились громче и быстрее. С каждым днем музыка складывалась из разных звуков и ритмов. Позднее, через год, два, припоминая все наши дни, мы поняли, что все вместе они сливались в симфонию, и то была симфония нашей жизни - наших живых душ, нашего движения, присутствия на земле.
Сквозь сон до нас долетали паровозные гудки, цокот лошадиных копыт. Так нарождался день. Мы просыпались и вслушивались в звуки окружающего мира, и услышанное жило в нас, даже если вокруг царило безмолвие. Мы вылезали из постелей и прислушивались к плеску воды в умывальнике, треску дров в нашей плите, к посвисту воды, закипающей в чайнике, позвякиванью ложек и ножей, вилок и тарелок, ко всем этим милым, приятным, исполненным значения звукам.
А на школьном дворе раздавались голоса сотен таких же. как мы, и у каждого - имя, облик и прошлое, которое тянулось через века, к теплу земли и твердости камня. Потом вдруг раздавался пронзительный электрический звонок. Угомонившись и подчиняясь порядку, заведенному старшими, мы шагали в классы, садились за парты и становились частицей форм, созданных человеком из ничего. Мы внимали голосу нашей учительницы, мисс Гаммы, которая учила схватывать на лету, постигать.
А в городе шаркали по цементным тротуарам люди, звучала их речь, сновали взад-вперед фургоны, автомобили и трамваи. На новостройках, которые вырастали на пустырях, пилили доски, мешали цемент, заколачивали гвозди и вбивали заклепки. По полдюжины зданий за раз. Солнце в зените. В неподвижности летних дней тарахтел большущий трактор, вгрызающийся в податливую землю улиц. За городом гудели насосы, качающие воду из чрева пустыни. И все это была музыка, у нее была своя прелесть и пульс, но мы понимали, что она не цельна, придет время, и все эти звуки сольются в одно великое произведение, неповторимое и прекрасное, что оно сохранится и пребудет в веках.
А когда наступала тишина, в мелодичных темах и ритмах нашего дыхания и сознания эта музыка порой являлась к нам снова. Иногда к нам проникали с улицы сонное гуденье органчика в синематографе "Либерти", пение и молитвы людей из Армии спасения, шелест падающего дождя, взбалмошная игра пианолы из кинотеатра "Бижу", выкрики странствующих евангелистов в шапито, истошные вопли женщин, обретших в себе Иисуса.
К нам долетал призывный клич Каспаряна, бродячего торговца дынями, тонкий свист тележек с воздушной кукурузой, которые катились по Санта-Клара-стрит, несмолкаемый лязг и скрежет товарных составов, пассажирских поездов и вдруг, откуда ни возьмись, весенние трели птиц, душераздирающий визг котов в любовном экстазе, звон церковных колоколов, пронзительный вой сирены и грохот проносившихся пожарных машин. А потом - звуки паровых органов, приехавших в наш город вместе с циркачами со всей Америки, красноречивая риторика ярмарочных зазывал, церковные песнопения, воскресные проповеди, речи в поддержку Заема свободы, говор незнакомых бродячих торговцев, устроивших свои лотки в наших трущобах и пытавшихся сбагрить нам новые патентованные подтяжки и подвязки, привезенные прямо из Цинциннати, штат Огайо. Мы слышали рукоплескания сотен людей на концерте общественного оркестра, что давали по воскресеньям летними вечерами в парке у здания суда. Все это представлялось и воспринималось как музыка, и речи, когда они приходили нам на ум, звучали без слов, и все эти слова и ритмы в наших воспоминаниях приобретали созвучие, из которого, нам казалось, должно получиться великое музыкальное произведение. Мы сгорали от нетерпения в ожидании этого шедевра, и наконец мой брат Крикор купил себе якобы корнет, а я, усевшись за пианино, принялся извлекать из него всякие дурацкие звуки. И каждый раз на самом интересном месте на память вдруг приходили обрывки слов и мелодий из лучших дней нашего прошлого, и тогда нам слышалось: "Выпей за меня одним лишь взглядом", "Возвращайся, возвращайся в Эрин", "Мериленд, мой Мериленд", и для меня эти песни были нежным и трогательным выражением тоски смертного человека по какому-то определенному месту на земле, и тогда нам слышалось: "Катлин Мавурин, наступает серый рассвет", "В сумерках, моя родная", "Я еду по зову сердца", "Прощай, прощай", "Тихая ночь, священная ночь". Мы перебирали обрывки этих старинных песен, неувядающую трепетность человеческого сердца, и никак не могли вспомнить, где мы слышали эти песни, как они запали нам в память и стали частью нашего существа, но песни эти всегда с нами, и их уже не забыть.
И было невдомек, что за сотни лет до того, как начал строиться наш город, музыка человека, живущего на земле, которую мы так жадно слушали, эта песня человеческого сознания, души и тела, уже была реальностью. Мы не знали, что все неистребимое и восхитительное для нас уже запечатлено в симфонических ритмах, написанных великими музыкантами, а нам казалось, что все происходящее в нас и вокруг - ново, потому что мы еще только пришли в этот мир и были глубоко убеждены, что самые лучшие мгновения нашей жизни должны сохраниться в величествен ном потоке гармоничных звуков.
А по всей стране раздавались нервные, скачущие звуки, называлось это новым словом "джаз", и на танцплощадках все дергались под новую музыку.
В те времена у нас еще не было патефона, впрочем, в нем не испытывали надобности, потому что музыка гремела на каждом углу. Мы почти ощущали эту музыку в поведении людей, в том, как они пробуждаются, встают, говорят, шагают, едят, работают. Поначалу мы были разочарованы, потому что все возвышенные чаяния были низведены до какого-то дрыганья, но прошло время, год, два, три. Мы быстро подросли, и после войны, когда Крикор принес домой патефон и начал покупать пластинки, после парадов и военной суматохи, мы стали постигать эту музыку, родившуюся на этом континенте из нашего национального горя, отчаяния, одиночества, и прониклись истинной глубиною этой музыки и узнали, что под покровом ее жалкой кричащей пестроты таится та же старинная нежность человеческого сердца, та же извечная тяга к изяществу, любви и красоте.
1934 г.ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ
Над нашим приютом, на холме, жило семейство Уэстов. С виду их продолговатая хибара мало отличалась от сарайчика, где содержались куры и кролики. Я обожал этих людей больше всех на свете. Отец с матерью были милые и обаятельные. У них было пятеро сыновей и дочь, от девяти до восемнадцати лет, все в веснушках. Старшая - общительная восемнадцатилетняя красавица, ни в чем не уступала братьям, но никогда не задавалась перед ними.
Легкость и непринужденность, неистребимо веселый нрав и прирожденный вкус к приключениям были присущи им всем. Их интересовало все, а у старшего сына был еще и мотоцикл, с которым он вечно возился и на котором катал младшего брата или меня по всей округе на заднем сиденье.
Они все знали про холмы. Знали, какие там растут деревья, какие животные и птицы там обитают. Знали каждый ручеек и речку. Знали, где какая водится рыба, где можно поймать змею, а где наловить полную банку коричневых склизких "водяных собачек", так, кажется, мы называли саламандр.
И всегда они что-нибудь мастерили, из дерева, из бумаги, и пускали в дело. Если это был воздушный змей, они заставляли его летать. Он уносился в небо, рвался из рук, а они упорно бежали за ним, спотыкались, падали, хохотали и что-то кричали друг другу на бегу. Да... Это была семья. Здесь пахло человеком, здесь пахло домашним очагом. И даже запахи, доносившиеся из курятника с крольчатником, казались приятными.
Я очень подружился с самым младшим из них. Еще недавно я помнил, как его звали. Вот ведь что делает с людьми время. Рой? Мелвин? Черт, забыл. Он обычно прибегал к нам в приют, искал меня или кого-то другого и находил во дворе или в саду. Если мы работали в огороде, он присоединялся к нам, копал с нами картошку, смеялся, болтал как ни в чем не бывало, словно он тоже был наш, приютский. Мало кто из оклендских мальчишек так поступал. Только братья Уэсты, как мы их называли.
Они просили разрешения у дирекции и забирали кого-нибудь из нас к себе домой до вечера. Меня отпускали к ним раз десять, если не больше. Но мы были с ними все время, они всегда были рядом, у них были папа и мама, и было радостно их видеть. Мы знали, что такие семьи на свете есть, и от этого на душе становилось легко.
1960 г.БАНЯ #3#
В доме на улочке Сан-Бенито все удобства выходили на задний двор, там располагались ванная и туалет с дощатым полом. Старый пол был весь в щелях, и зимой из них хлестало холодом. Горячей воды в кране не было, потому что не было бака для горячей воды. Воду согревали на кухонной плите. Купались мы по-старому, как когда-то на родине, эту привычку сохранила бабушка Люси, она одно время была банщицей. Пока мы с братом еще, так сказать, не возмужали, Люси купала нас, если оказывалась у нас в гостях, а у нас дома она бывала часто, потому что любила маму больше, чем двух других своих дочерей. Во всяком случае ей нравилось с ней поболтать, посплетничать, пошутить и посмеяться, спеть что-нибудь, поделиться воспоминания ми, поиздеваться над чьей-нибудь глупостью и высокомерием. Когда же мы наконец возмужали и Люси это вдруг узрела, она сказала: "Ну вот, еще один мужчина, и все у него на своем месте. А теперь, пожалуйста, будь добр, наклонись, чтобы я не видела этого срама, я потру тебе спину".
Терла она колючей, жесткой тряпкой, с едким хозяйственным мылом "Фелс-Напта". А когда мы вышли в большой мир, у нас завелось мыло получше - "Белый Король" - так оно называлось. А когда началось окончательное наше разложение, стали пользоваться мылом "Палмолив".
Банный день устраивался не чаще раза в неделю. Объяснялось это тем, что подогревать воду - дело довольно хлопотное. Также считалось, что частые купания вредны для здоровья. Душе нужно время, чтобы воссоединиться с телом, а если, скажем, купаешься каждый день, то душа не успевает каждый раз возвращаться на свое место.
В ванной стояла маленькая деревянная табуретка, некогда ею пользовались в бане, на прежней родине. На табуретке полагалось сидеть банщику. Перед ним стоял оцинкованный таз с горячей водой, его ставили под кран с холодной водой. Старая Люси иногда забывала добавить холодной воды или не считала это нужным - вода оказывалась несколько горячее, чем можно выдержать, - я с воплем вскакивал. Но на самом деле вода, наверное, была теплая и казалась кипятком, потому что я мерз. В таких случаях Люси хватала меня за загривок, усаживала на место и ворчала при этом, что ни за что не поверит, что я когда-нибудь разбогатею. В ковшик, привезенный со старой родины, она набирала горячей воды из таза (ковшик этот мы называли тас). И снова поливала меня горячей водой. На этот раз вода уже не кажется такой горячей, а может, я просто привык к бабушкиному ворчанию. Перво-наперво намыливали голову, причем не волосы, которых у меня всегда было много, а лицо, глаза, уши, нос и шею. У бабушки были сильные, мозолистые, проворные руки. Она без умолку говорила что-то сердитым голосом о мире, о том, что делают в нем разные люди, мудрые и глупцы.
Волосы дважды намыливали и дважды прополаскивали, потом принимались за спину. Бабушка не успокоится, пока не натрет ее докрасна. Потом она переключается на руки и спину и, натирая, приговаривает: "Кожа да кости, худющий, как палка. Такуи, почему на нем совсем нет мяса?" Она, конечно, не надеялась услышать ответа на вопрос, потому что мама в это время грела воду на кухне. На дне ванны собиралось много грязи. А если ее было мало, то бабушка огорчалась, ей, наверное, казалось, что ее хватка лучшей в мире банщицы ослабевает. Когда же грязи в ванне скапливалось много, она с гордостью говорила: "Видишь, видишь, сколько грязи! Хватит на маленький виноградник, где разводят аликанте ".
Когда ее сын Арам рассказывал о своих делах, она перенимала у него некоторые слова и употребляла, где могла. Ей особенно нравилось, как звучит аликанте . Это слово (или вариант, в котором оно произносилось бабушкой) хорошо уживалось с армянскими словами. Такие слова со всеми неточностями, искажениями и новообразованиями были неповторимы. Когда Люси что-то раздражало, она изобретала слова, а иногда и целые фразы.
Когда самая тяжелая работа оставалась позади, бабушка бросала мне мокрую мыльную тряпку: "А хозяйство свое давай сам". Она отворачивается или смотрит в другую сторону, мурлыча себе что-то под нос по настроению. Например, какой-нибудь "глупый протестантский гимн", как говаривала она. Или какую-нибудь патриотическую армянскую песню, либо свой вариант песни "Пусть не гаснет в доме очаг". Это было представление, спектакль, если хотите, который разыгрывался ради собственного удовольствия или чтобы доставить удовольствие кому-то, когда это встречало отклик, конечно. Но прежде всего это делалось ради дорогого ей человека, о котором она заботится. "Ля, ля, ля, ля, ля, ля, а теперь потри хорошенько ноги, тебе приходится много ходить". Наконец наступает очередь последнего обливания. Бабушка медленно выливает мне на голову воду из ковша: "Ох-ай". "Ох-ай" это совсем не то, что "А-ах". "А-ах" - на десяти разных языках выражает сожаление, скорбь. "Ох-ай" же значит хорошо, здорово, лучше быть не может. И так далее.
Потом подавалось большое теплое полотенце, которым я начинал лихорадочно вытираться, а бабушка мне помогала. И я мчался на кухню по веранде, продуваемой всеми ветрами.
Я вбегал на кухню, а меня там уже поджидал стакан холодной воды с тремя чайными ложками сахару. Вкуснее напитка и не знаю. Мы называли его шарбат, очевидно, это слово произошло от слова "шербет", а может, наоборот. Эту традицию я сохранил и в своей семье для своих детей, когда они были еще маленькими. И если кто-то об этом забывал, то сын или дочурка напоминали: "А где мой шарбат?"
Это шумное, лихорадочное, если хотите, в чем-то комичное купание все же было для нас благодатью.
После бани я одевался во все чистое: длинное свежевыстиранное белье, толстые свежевыстиранные носки; все дырки в них заштопаны, пальцы из них не торчат. Выглаженная свежая хлопчатобумажная синяя рубашка, синие брюки, тоже свежевыстиранные и глаженные. От всего исходил добрый густой запах хозяйственного мыла. Потом я сушил волосы на кухне и зачесывал их назад. Жира никакого не требовалось. Волосы у меня и без того жирные. Затем мне вручались ножницы, чтобы я остриг ногти на ногах, а после бабушка или мама, если бабушки не оказывалось дома, стригли мне ногти на руках, но всегда остригали один-два ногтя и забирали так глубоко, что они болели потом весь день.
- Надо же наконец научиться стричь ногти, - возмущался я.
- Ничего, отрастут, - отвечали мне равнодушно, - а теперь одеваться и марш в гостиную.
Минут через десять поспевал второй шарбат, еще вкуснее первого.
Как же здорово жить! Я повторял это множество раз, почти слово в слово, и успел надоесть всем. Им это не нравилось, и они ворчали на меня, как бабушка Люси: "Никогда тебе не стать писателем".
Ну что им ответить! Наверное, они никогда не мылись так, как мы. Наверное, они купались в нормальных ванных комнатах, каждый вечер или каждое утро, и мылились дорогим мылом. Никогда, наверное, после купания они не пили шарбат. (Они не пили шарбат ни сразу после купания, ни через десять-пятнадцать минут). Баня не стала для них благодатью. Они всегда были чистыми, даже очень чистыми. Им никогда не приходилось видеть столько грязи на дне ванны, что хватило бы на маленький виноградник аликанте. Они просто купались в своей ванне и ни о чем не задумывались.
Весь дом обогревался кухонной плитой. Другого источника тепла не существовало. Топили опилками. За три доллара нам привозили целый грузовик опилок и сваливали в один из двух наших сараев. За зиму мы сжигали два-два с половиной грузовика опилок. На растопку шли обрезки дерева, мы притаскивали их откуда только могли. Всю зиму, днем и ночью, в плите горел слабый огонь. Приятно пахло опилками, древесной смолой, кедром, сосной, дубом, раскаленной плитой. Плита была невысокая, имела две большие духовки, а на блестящей никелированной дощечке гордо сияла надпись "Экзельсиор". Нашего кота звали так же, в честь плиты. Кот расхаживал вокруг или лениво потягивался. Лежа на полу неподалеку, он поглядывал на армян, а те на кота, который научился у них, как себя вести, понимал немного из того, что они говорили, и все, что они делали. Мы жили вместе. Это был серый котище, ловкий, сильный, независимый и все же теплый и ласковый. Он был немного себе на уме, или, если хотите, был гениален, особенно весной и ранним летом. Бах! И он выпрыгивал сквозь москитную сетку, сквозь запертую на крючок дверь, словно она и не заперта, а распахнута настежь. От этого не страдали, однако, ни кот, ни дверь, ни сетка. Все объяснялось древним, безудержным влечением к девочкам. Кот исчезал на три-четыре дня, потом появлялся весь истерзанный, ложился и принимался сам себя исцелять, как Экклезиаст: "Все суета. Всюду печаль и невежество. Ради всего святого, какой во всем в этом смысл и где же, наконец, мое блюдечко с молоком?"
1961 г.Перевел с английского Арам Оганян.
Рисунки А. Зобнинской.