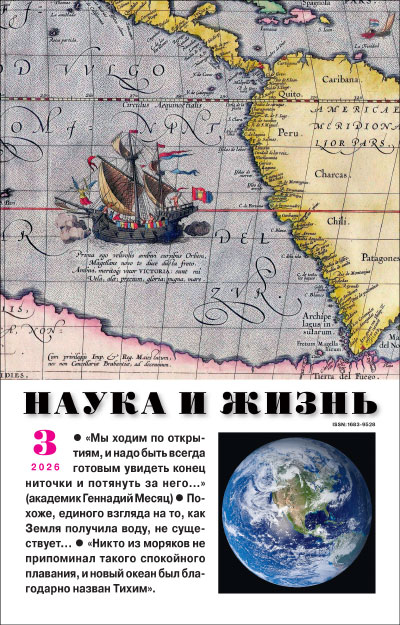Когда произносят имя Николая Михайловича Амосова, сразу всплывает: "Мысли и сердце". Два слова - название его первой книги - удивительно точно выражают самое главное в жизни этого замечательного человека: операции на сердце, спасшие стольких людей, и мудрый взгляд мыслителя.
Николай Михайлович был давним и любимым автором и другом журнала "Наука и жизнь". В 1965-1966 годах журнал опубликовал его первую книгу "Мысли и сердце", затем - фантастическую повесть "Записки из будущего", "ППГ-2266. Записки военного хирурга", "Книгу о счастье и несчастьях", "Раздумья о здоровье", несколько статей. Совсем недавно мы представили читателям книгу "Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. Человек и общество", выпущенную издательством "Сталкер" (см. "Наука и жизнь" №№ 11,12 2002 г.).
Он родился в 1913 году в вологодской деревне неподалеку от Череповца, увлекался физиологией и техникой, получил два высших образования - медицинское и инженерное. Потом началась война. Молодого хирурга, недавно закончившего мединститут, мобилизовали в самые первые дни и назначили ведущим хирургом полевого госпиталя. Было трудно - сотни раненых, перевязки, операции, смерти. В военных условиях хирургам часто приходилось прибегать к ампутации конечности. Амосов напряженно искал способы по возможности избежать этой крайней меры. В "Записках военного хирурга" он писал: "Коленки", ранения коленного сустава - вот что мучает нас неимоверно. ... Тяжелейший сепсис через две-четыре недели. Если ногу не успеть ампутировать - смерть. ... Я придумал новую операцию - вариант экономной резекции коленного сустава с сохранением связок. ... Может, она совсем не новая, но мне наплевать на приоритет - лишь бы был толк! Саша Билибин, двадцать четыре года... Артротомия, глухой гипс - никакого толку: сепсис угрожает. Жалко парня... Можно еще ампутировать и спасти... Не хочет. То есть не отказывается, но уж очень просит. Предложил попробовать новую операцию. "Надеюсь, но не уверен". Они мне верят - эти ребята, хотя - за что бы? "Давайте, Николай Михайлович! Вдруг поможет, а? Очень жалко ногу..." Если этот Сашка помрет, уйду из госпиталя. Куда угодно. Уйду в медсанбат или в полк".
Того раненого и еще многих других удалось спасти, удалось обойтись без ампутации. Но Амосов не успокоился: "Я чувствую, что вчерне мы сладили с коленными суставами. На очереди - "бедро". ... Долго спорили, но я получил разрешение попробовать лечить переломы бедра вытяжением". И снова - успех. "Я торжествовал, - пишет он. - Нет, я ликовал! Не потому, что я придумал новое. Все это давно известно. Просто я почувствовал, что теперь можем лечить "бедро", раненые не будут больше умирать. Не стыдно будет смотреть им в глаза!"
В заключении к "Запискам военного хирурга" он написал:
"Море страданий человеческих... Почти 50 тысяч раненых, большинство - лежачих, тяжелых. Свыше тысячи умерли. Это только в нашем маленьком ППГ на конной тяге, рассчитанном на 200 коек, с пятью врачами..."
После войны Николай Михайлович, уже переехав в Киев, стал выдающимся кардиохирургом. Он выполнял сложнейшие операции на легких и сердце с использованием передовой по тем временам технологии - аппарата искусственного кровообращения, первым создал искусственный сердечный клапан с покрытием, предупреждающим образование тромбов, и первым в нашей стране начал вшивать его больным. Он организовал клинику, которая позднее была преобразована в Институт сердечно-сосудистой хирургии. Долгие годы оставался директором этого института, обучил десятки молодых хирургов и почти до восьмидесятилетнего возраста сам оперировал больных. "Хирургия была моим страданием и счастьем", - писал он.
Беспощадный к себе, он был требователен и к другим. В вестибюле клиники повесил объявление: "Прошу родственников и больных не делать подарков персоналу, кроме цветов".
Николай Михайлович увлекался биокибернетикой, в 1958 году начал сотрудничать с Институтом кибернетики в Киеве, развивая свои давние идеи о саморегуляции в организме человека, механизмах разума и об искусственном интеллекте, занялся моделированием развития личности и общества. Но все же, как писал сам Амосов, "кибернетика служила лишь удовлетворению любопытства, если не считать двух десятков подготовленных кандидатов и докторов наук".
Николай Михайлович придумал гимнастику, включающую 1000 движений ежедневно, и разработал режим ограничений и нагрузок. Он считал, что "биологическое здоровье человека зиждется на физических усилиях, сопротивлении холоду и жаре, голоду и микробам". Из лекций о системе тренировок, питания, закаливания родилась книга "Раздумья о здоровье", вышедшая миллионными тиражами. Почувствовав приближение старости, Амосов решил бросить вызов возрасту и провести эксперимент на себе, который он так и назвал: "Преодоление старости". Идея была такой: "Старение снижает мотивы к напряжениям, падает работоспособность, мышцы детренируются, это еще сокращает подвижность и тем самым усугубляет старение. Чтобы разорвать этот порочный круг, нужно заставить себя очень много двигаться". И он двигался, увеличивал нагрузки, усилием воли сопротивлялся болезням. Эксперимент успешно продолжался многие годы, но у любого организма есть свой предел прочности.
В декабре 2002 года Николая Михайловича не стало: на 90-м году жизни сердце, перенесшее не одну операцию, остановилось. Но его мысли остались с нами - в статьях и книгах. Перечитаем вновь некоторые страницы.
МЫСЛИ И СЕРДЦЕ
(отрывки из книги)
Второй день. Через два года
Дорога ведет в гору. Я иду на работу. Почти каждое утро я карабкаюсь в гору. В мыслях тоже.
Операции. С утра втугую закручивается пружина. Как будто уже все сто раз продумано, и я рассматриваю людей, деревья, машины. В уме веду даже какие-то разговоры. Но это только так, сверху. А перед внутренним взором все время проносятся картины операции. Обрывки мыслей. "Нужно не забыть это. Пожалуй, лучше сделать так. Вот тут подождать! Спросить анестезиолога..." Даже слегка шевелю руками.
Довольно, посмотри, какая кругом прелесть. Майское утро. Цвет яблонь. Дымка молоденьких листочков. Запах весны.
Слова только губят. Впрочем, нужно иметь слова. Талант писателя заключается, видимо, в том, что он умеет рассказать о чувствах словами... Нет, наверное, кроме того, нужно уметь чувствовать. Как это просто и приятно: выдумывай, чувствуй, описывай.
Достаточно с меня чувств. Может быть, поэтому я не рассматриваю цветочки на яблонях. Брось: все много проще - ты слепец. Но, кажется, когда-то я тоже любил закаты и восходы? Давно. До войны. Для меня она уже больше не кончалась.
Утром я не думаю о больном. С утра все тормоза держат крепко. Только об операции, только о болезни, о сердце, легких. Даже о психике. Но без лица. Без глаз.
Сегодня не могу сдержать себя. Особый случай: рискованная операция близкому человеку. Очень рискованная. Черт меня дернул вести с ним эти разговоры, залезать в душу. Нет, не так, в душу я не залезал. Только ум, только интеллект. Снова не так: душа была. Какая-то особенная, нежная и в то же время сухая, как формула.
...Эмоции - страшный враг сердца. Даже здорового. Но попробуй без эмоций, когда он все знает. Другие верят, не понимают, их можно обмануть. Саша - математик, все рассчитал, все вероятности, вес случайных факторов.
Я, к сожалению, не уверен в его расчетах: они слишком оптимистичны. Есть еще время. Можно прийти и отменить операцию. Я посмотрю на него.
...Все во мне возмущается против этих нелепостей, из которых сложена жизнь. Зачем болезни, зачем ссоры, войны? Опять я задаю глупые вопросы, как несколько лет назад. На них уже есть ответы, или, вернее, их можно получить. И снова Саша: после бесед с ним многое стало понятно. Не устаю восторгаться его головой. Если бы здоровье и немного честолюбия - что бы из него вышло! Слово "здоровье" сегодня уже не звучит. Сама его жизнь сегодня подошла к своему рубежу.
Так хочется перебрать в памяти все встречи, все беседы.
Так щемит сердце.
Нельзя! Вот прооперирую - для этого будет достаточно времени. Завод кончится, пружина распустится, поправить уже ничего будет нельзя... Тогда вспоминай сколько хочешь.
А сейчас иди быстрей. Быстрей. Хирург должен быть выносливым и тощим.
...Вот и наш дом, клиника. Красивая, на фоне тополей с бледными листочками. Такой, наверное, ее и видят проходящие мимо. А я не могу.
Там два окна послеоперационной палаты. Одно из них открыто, виден букет ранних цветов. А мне за ним представляются картины, которые, увы, я достаточно часто видел. Нет, я прогоню их, не буду вспоминать. Нельзя. Поменьше чувств.
Скамейки. Уже сидят родственники больных. Они всегда тут сидят, кроме самых холодных дней. Матери наших ребят. Есть счастливые, есть несчастные. Я прохожу мимо них с непроницаемым лицом. Не могу я вот так улыбаться, когда в душе одна тревога. И вообще не люблю разговаривать с родственниками. Нет, у меня хватает и такта и терпения, но без теплоты в интонациях. Плохо, конечно. Но как-то я должен защищаться от горя, которым, кажется мне, все вокруг пропитано. Это выше сил - выслушивать их переживания. Они несчастные, но здоровы. Довольно с меня больных.
...Я не думаю словами. Всю эту историю я знаю очень хорошо, и слова не нужны. Вспыхивают только отдельные картины. Длинные разговоры проносятся как молнии - одним только смыслом. Когда пишешь и говоришь - волочишь груз слов - грубых, невыразительных. Будет ли когда-нибудь разговор мыслями? Фантазии. Говорят, бывает между близкими. "Понял без слов". Было? Нет, пожалуй, не было. Что-то очень примитивное.
Как мне сейчас нехорошо. Наверное, так бывает на войне перед сражением, от которого все зависит.
Первое знакомство: в рентгенкабинете, на амбулаторном приеме. Много больных. Молодой человек, направленный с митральным стенозом.
- Никакого стеноза. Недостаточность третьей степени.
Мягкий голос. Смущенные вопросы.
Приговор: "Ждать. Мы ищем".
Конечно, что мы тогда могли предложить? Были уже первые попытки или еще нет? Стал забывать хронологию. Как это можно - такое забыть?!
Много изобретали разных операций для лечения недостаточности. И я - тоже. Помню: кровотечение. Фибрилляция. Смерть на столе. Опустошенность. Досада. "Туда же, изобретать... дерьмо".
Неужели сегодня будет то же? Как ноет сердце! Приду домой: "Проклятье! Никаких клапанов больше! На грыжи, на аппендициты... на свалку..."
...Больные с недостаточностями ждут. Несчастные. Без надежды на жизнь.
И Саша снова пришел. Через год, наверное? Да, уже мудрили над новой операцией. АИКа (АИК - аппарат искусственного кровообращения. - Ред.) еще не было. Только на собаках. Значит, года три назад. Как время летит. Пусть летит. Я уже не хочу ни остановки, ни возвращения... Это ты только сейчас. Операция кончится хорошо - скажешь: "Еще пооперируем!"
Так же и тогда: кабинет, я после удачной операции (пищевод, кажется? Дед такой смешной - поправился). Чудесный вкус сигареты (сейчас бы!). Никуда я не спешу. Послушал Сашу, посмотрел. На животе еще тогда жирок был, не как теперь - одна только плотная печень выпирает. Лицо уж очень умное, располагающее. Рассказал ему о готовящейся операции. Для чего? Наверное, похвастать. Он загорелся, не понимая, что все это глупости. Я и сам не понимал. Дальше - больше. Разговоры о медицине вообще. Что она такая-сякая, без теории, неточная. Потом о диагностической машине - тогда в печати появились сообщения, и мы заинтересовались ими. Он предложил свои услуги как математик. Помню, мелькнуло: "Он такой приятный и умный, а ему будет все хуже. Будет жалко и нельзя помочь. Откажись". - "А, ничего!"
Вот и "ничего".
Отказал бы тогда - сейчас не сидел бы и не плакался.
Не стал он серьезно заниматься диагностическими машинами. Потянуло в психологию. А жаль. Может, у нас было бы что-нибудь.
Он для меня открыл новый мир. В чем суть? Количественные отношения во всем: "Информационный план мира". Не могу объяснить словами. Слаб. Не усвоил полностью. Биология, искусство, социальные науки. Всюду царят законы переработки информации. Не пытайся уточнять. Это он умеет все разложить по полочкам, вывести возможные количественные закономерности, где точные, где вероятные.
...Повезли уже, наверное? 10.30, пора. Улыбался он хорошо сегодня. Что-то будет через несколько часов? Как перенести, если умрет?
Помнишь, как после той операции, к которой готовились при знакомстве? Уверен был, что сделаю. Глупая самонадеянность! Больной умер через несколько дней от сердечной слабости. Исправить клапан не удалось. "В последний раз, больше не буду. Пусть умирают без меня..."
Саша тогда погрустнел. Скоро появилась декомпенсация, пришлось положить в клинику. Все что-то писал, лежа в постели. "Жить осталось немного, и нужно подумать о некоторых философских и психологических проблемах. Хотя бы уяснить для себя, объяснить другим уже не успею..." Читал о йогах, библию, о телепатии. Но мистиком не стал. Посмеивался. "Ничего нет, одна машина!"
Одна машина. Умом я никогда не верил в бога, но все-таки как-то не по себе, когда они грозятся смоделировать на машинах человеческие чувства, сознание, волю. Хочется думать, что это будут не те чувства. Не настоящие. Но Саша абсолютно уверен. Говорит - те самые.
Ты помнишь изумительное ощущение счастья после первой удачной операции с АИКом? Неужели это может и машина? Не знаю. Конечно, я ему очень доверяю, но, наверное, уже стар, чтобы поклоняться новым богам. Достаточно с меня обычного материализма. Из кибернетики меня вполне устраивают диагностические машины и автоматы, управляющие искусственным кровообращением. Никаких чувств для них не нужно.
...Думали, вот теперь, с искусственным кровообращением, будем исправлять недостаточность. И опять смерти - одна, другая. Разве было счастье? Где оно?
Нет, он все-таки не чуткий. Нельзя было это мне говорить, когда я пришел к нему как к другу, измученный, убитый. А он показал американские журналы с фотографиями искусственных клапанов. Подумаешь, прооперировали двух больных.
Что он тогда сказал?
"Видимо, мне не дождаться, пока вы клапаны сделаете".
Самое главное, как это было сказано. "Вот я, а вот вы". Он тогда решил какую-то очень трудную задачу, что-то важное для обороны. А мы не можем делать операций, которые уже придуманы.
- Вшейте мне клапан!
"Вшейте клапан". Легко сказать!
- Вшейте, ведь я все равно умру. Какая разница - с клапаном или так, месяцем раньше - месяцем позже?
Действительно, какая? Если бы это был жизнелюб, может быть, цеплялся бы за каждый день. Чтобы дожить до лета, понюхать запах тополей.
Ему все равно, а мне? Умрет - что я скажу себе? Не оперировать - проживет еще год. Но это будет уже только медленное умирание. Без сна, с одышкой, с отеками. И уже нельзя распорядиться собой. Пока еще можно. Впрочем, один он не может. Только со мной. Это не обычная операция - один хирург отказал, пойду к другому.
Кажется, мой друг, ты уже ищешь оправданий. Не поможет. Смерть есть смерть, и причиной будешь ты.
Тяжелый больной всегда настаивает - "оперировать". Любой риск. Но я-то знаю, что ему нельзя вшивать клапан, риск процентов восемьдесят. С Симой просто повезло. Умрет один, умрет другой, после этого как предложить третьему? Поди докажи, что причина смерти была в тяжести состояния. Даже себе не докажешь.
Ошибки. Ошибки. Как научиться лечить без ошибок? Саша говорит - невозможно. Человеческий организм столь сложен, что мозг может познать его только очень приблизительно. "Моделировать", как он говорит. Вот когда будут машины... Но, мне до них, наверное, не дожить...
Не будет эмболии - выскочит что-нибудь другое. Все можно ждать у такого тяжелого больного. Опыта мало, вот что главное.
Покурить бы! Одну затяжку. Нельзя. Как машина.
Интересно, что у него написано в тетрадке? И в письме. Видимо, есть какой-то роман. Был. Будет ли? Не стоит думать.
Я должен мысленно проститься здесь. В операционной его уже не будет. Там лежит только тело, которое может стать трупом. Что-то мешает мне открыть даже тетрадь. Это возможно только после. Тогда при всех условиях я буду иметь на это право. Если останется жив - он мне будет близкая родня. Все равно как сын. Если умрет - я оставлен душе-приказчиком.
Как обнаженно выступает жестокость жизни в нашем деле!.. Профессор говорит сентенциями. Противно, а иногда не удержишься.
О! Идут. Стучат.
- Да!
- Михаил Иванович, вам мыться.
Ну вот. Все кончилось. Больше нет никаких чувств. Они скользят где-то на задворках сознания.
Переодевание. Протирание очков.
Я оперирую сегодня в малой операционной. Она приспособлена для АИКа. Кроме того, в потолке есть фонарь, через который смотрят зрители. Это хорошо, что не мешают, но плохо, что слишком доступно. Операция не театр.
Заглянул из коридора. Он лежит на боку, уже закрыт простыней, уже не Саша, а абстрактный больной. Я не вижу ни одной знакомой черточки. Под простыню, на лицо, я заглядывать не буду. Оно, наверное, тоже чужое.
Все как будто в порядке. В спокойных позах стоят анестезиологи - Дима и его помощник Леня. Он ритмично сжимает дыхательный мешок наркозного аппарата. Редкими каплями капает кровь в вену. Мирная кровь. Мария Васильевна обкладывает операционное поле. Сейчас она просто Маша или Марья, смотря по обстоятельствам. Уже стоят на своем месте ассистенты. "Машинисты" тоже сидят около своего аппарата. Только Марина, операционная сестра, что-то красная. Видно, была какая-то маленькая перепалка. Незачем вникать. Сами разберутся.
Везде чисто. Тазы еще пустые. Кровь только в ампуле капельницы. Просто прелесть, какая приятная картина! Что бы ей остаться такой до конца... такой до конца...
Моюсь, как всегда, молча и без мыслей. Просто тру щеткой руки. Все продумано. Добавить ничего не могу. Особое спокойствие.
Вхожу в операционную. Разрез кожи уже сделан. Диатермией прижигают кровоточащие сосуды.
Меня одевают в халат, завязывают маску. Становлюсь на свое место. Довольно тесно, четыре хирурга и сестра, все около груди.
- Клапаны?
Кивок. Зачем слова?
Вскрыт перикард. Обнажено сердце. Оно меня страшит. И на снимке было видно, что большое, но когда оно открыто... Фу! Левое предсердие - как мешок, желудочек огромный, сильно пульсирует. Когда он сокращается, то только половина крови идет в аорту, а вторая - обратно в предсердие, через плохой клапан.
Ревизия. Это значит - палец введен через разрез предсердия внутрь сердца. Я ощупываю створки клапана: они грубы и неподатливы. Шероховаты от кусочков извести. Сильная струя крови бьет в кончик пальца при каждом сокращении желудочка.
Собственно, это и ожидалось.
Минуту думаю. Сразу клапан или попробовать штопать? Клапан - это быстрей, и он не умрет на операции. Не должен бы. Но потом? Приживется ли? Сердце очень изменено, условия прирастания плохие. И как долго он будет служить? Но если пластика не удастся, то придется все равно вшивать клапан. Это лишний час работы машины. Это гемолиз, это печень, почки.
Нет. Как всякий хирург, я прежде всего хочу, чтобы он не умер вот тут, сейчас или скоро после того. А дальше, через месяцы и годы, это уже не так остро.
Снова: нет. Так не пойдет. Спокойно рассуди.
Опять лезу пальцем в сердце. На долю секунды мысль: как это стало просто - в сердце. А помнишь трепет первого раза? Восемь лет назад я был моложе. Теперь бы уже не начал.
Ощупываю, пробую, представляю. Нужно решить сейчас, потому что, когда вскрою сердце, оно уже не будет сокращаться и нельзя увидеть движений клапана.
У меня нет мыслей о Саше. Я не вижу его улыбки, не слышу голоса. И вообще не ощущаю, что это живой человек. Все в подсознании. А сверху только очень напряженные рассуждения - как сделать лучше.
Клапан. Но окончательно - когда увижу.
Мельком взглянул наверх. Кругом сидят наши: врачи, сестры. Даже какие-то незнакомые. Не нравится. Как гладиаторы: смерть и мы. Не смотри. Это все пустяки.
- Давайте приключаться.
Это значит - приключать АИК. Одна трубка вводится в правый желудочек - по ней оттекает кровь от сердца в оксигенатор - искусственные легкие. Затем она забирается насосом (это сердце) и гонится по второй трубке в бедренную артерию. По пути еще стоит теплообменник, который сначала охлаждает кровь, чтобы вызвать гипотермию, а потом, в конце операции, нагревает ее.
Приключение хорошо отработано, но требует времени. Все идет как по маслу. Трубка в сердце введена без капельки крови. Приятно. Умею. Не хвались, идучи на рать... Фу, профессор! Саша, наверное, никогда не говорил так. Воспитание не то.
- "Машинисты", у вас все готово?
- Да.
- Ну, пускайте.
Заработал мотор. Все-таки он еще шумит. Но терпимо, не как первая машина.
Проверка: венозное давление, оксигенатор, трубки, производительность насоса. Докладывают - нормально.
- Начинайте охлаждение.
Я должен ввести трубку в левый желудочек, чтобы через нее отсасывать кровь, попадающую из аорты, и самое главное - воздух, когда сердце пойдет. Вот - на этом я прозевал Шуру.
На миг картина: палата, ночь. Ритмично работает аппарат искусственного дыхания. Она лежит - почти мертвая, без пульса, холодная. Только на экране электрокардиографа еще подскакивает зайчик, указывая на редкие сокращения сердца. Мозг погиб от эмболии, а за ним и все тело. Нужно только сказать, чтобы остановили аппарат, - и через полминуты остановится сердце. Навсегда. И страшно сказать это слово: остановите.
Поеживаюсь, как от озноба.
Вот что значит эта трубка в желудочке. Нужно ее хорошо пришить. А впрочем, это совсем легко, мы постоянно вводим в желудочки инструменты. Нужно четырьмя стежками обшить место прокола, потом, когда трубка извлекается, швы просто затягиваются, и дырки нет.
Все сделано, и наступает перерыв.
Еще минут десять, чтобы охладить больного до 22 градусов, которые нам нужны. Все моем руки сулемой.
Марина что-то копается в своем столе - готовится к главному этапу. "Машинисты" берут пробы для анализов. Дима проверяет медикаменты на своем столике и что-то просит принести.
Только нам совсем нечего делать. Временное затишье перед схваткой. Никаких мыслей в голове. Просто стою и смотрю на сердце. Вижу, как оно сокращается все реже и реже по мере снижения температуры. Оно работает вхолостую - кровь гонит аппарат.
- Марина, ты проверила иголки, нитки? Клапаны уже принесли?
- Да, все готово.
- Покажи мне.
Вот он, клапан. Каркас из нержавеющей проволоки, на который хитро натянута ткань из пластика и очень кропотливо пришита, так что образуются створки, как в натуре. Неплохо придумал Сенченко. "Мавр", как его назвал кто-то из инженеров. Хорошая голова.
Больше делать нечего. Ждем. Двадцать пять градусов. Ткани холодны, как у покойника, даже неприятно касаться. Сердце сокращается сорок раз в минуту. Нам нужна фибрилляция - беспорядочная поверхностная дрожь сердечной мышцы, заменяющая нормальные глубокие концентрические сокращения. Практически при низкой температуре - это остановка. Она позволяет спокойно работать: выкраивать, шить.
Двадцать три градуса. Фибрилляция.
- Начинаем.
Предсердие широко рассечено. Сильный насос за несколько секунд отсосал кровь. Вот он, клапан. Святая святых. Сердце сухо и неподвижно. Мертвое? Нет. Видны едва заметные подергивания - это еще жизнь.
Все подтвердилось: створки укорочены, жестки, известь прощупывается твердыми скоплениями до одного сантиметра в диаметре. Между створками зияет щель. Она не смыкается - тут и есть недостаточность. Восстановление клапана невозможно. Или очень рискованно.
- Иссекаем.
Зажимами захватываю створки и отсекаю их по окружности клапанного отверстия. Это немножко страшно - еще не привык. Все равно как делал первые ампутации: ноги уже больше не будет. На месте клапана зияет бесформенное отверстие. В него нужно вшить новый клапан.
Начинаются мучения. Вшивать очень неудобно: глубоко, негде повернуться инструментом. Проклятые иглодержатели совершенно не держат иголок! Они крутятся как черти. Сколько я крови из-за них перепортил, нет счета. За границей выпускаются специальные иглодержатели, у которых поверхнос ти, зажимающие иголку, покрыты алмазной крошкой. Они держат мертво, я сам видел. Так наше министерство пока почешется... Что им... Они не мучаются.
О, какое меня разбирает зло! Хотя бы один начальник, от которого зависят эти инструменты, попал мне на стол. Я бы его!..
Не попадаются.
Долго шью и... не удерживаюсь, ругаюсь. В пространство и на Марину, что растеряла иглодержатели, которые я сам подбирал, и на Марью, что плохо держит и не ловит концы нитей... На весь мир. Грешен, в душе ругаюсь матом. В молодости приходилось быть в соответствующей обстановке. Умел. "Ультиматум", как называл один товарищ. На ругань никто не отвечает.
Но всему приходит конец. Клапан посажен на место. Укреплен тридцатью швами. Прочно. Стало много легче. Можно посмотреть вокруг.
- Какой гемолиз?
- На тридцатой минуте был двадцать.
- А сколько минут работает машина?
- Пятьдесят пять.
- Почему так долго нет анализа?
- У них центрифуга плохо работает.
"У них" - это в биохимической лаборатории.
- Вечно что-нибудь ломается.
Но это я так, по инерции. Работают они хорошо, делают массу анализов.
Гемолиз пока небольшой. Мне, собственно, осталось только зашить сердце. Дела немного. Если бы хорошие инструменты, так клапаны вшивать нетрудно. И не от чего умирать больным. Пожалуй, мы решим эту проблему. Утрем нос всем, в том числе и американцам. Нужно срочно готовить статью в журнал и показать больного на обществе.
Тьфу! Что ты городишь? Какие статьи, какое общество? Больной лежит с разрезанным сердцем, одна умерла. И вообще!
Мне стыдно. Есть червячок честолюбия. Думаешь, придавил всякими благородными словами и даже мыслями, а он жив. Может быть, это он толкает меня на эти мучительные операции? Не знаю. Иногда вдруг начинаешь сомневаться в самом себе. Особенно опасны успехи и власть.
В общем, мы зашиваем. Тоже процедура деликатная - стенка предсердия тонка. Машину включили на нагревание. По коронарным сосудам идет теплая кровь, и сердце быстро теплеет. Оно уже, несомненно, живое - подергивания крупные, хотя и беспорядочные. По-ученому - крупная фибрилляция.
При зашивании нет смысла спешить. Все равно на нагревание нужно двадцать-тридцать минут. Поэтому я все делаю тщательно, спокойно. В операционной снова мир и тишина. Только слышно, как санитарки гремят стерилизаторами в моечной. Для них ничего святого нет, и операционная все равно что кухня. Черти!
Кончили зашивать.
- Сколько градусов?
- Тридцать четыре.
Теперь повышается медленно. Фибрилляция очень энергичная, сердце беспорядочно сотрясается. Кажется, нужно совсем немного, чтобы все эти волны организовались и дали одно мощное концентрическое сокращение.
- Готовьте дефибриллятор!
Это аппарат, дающий разряд конденсатора в несколько тысяч вольт за долю секунды. Он заставляет сердце восстановить ритмичные сокращения, снимает фибрилляцию. Прекрасная вещь!
И вдруг - о радость! - оно заработало само. Что-то там случилось, и из беспорядка родился порядок.
- Правильный ритм!
Это кричит наша докторша Оксана, которая наблюдает за электрокардиограммой на экране своего аппарата.
- Поздно сказала, мы сами видим.
Все страшно довольны. Дефибриллятор - вещь хорошая, но все-таки бывают случаи, когда сердце запустить не удается. И у нас бывало. По многу часов, по очереди, мы массировали - сжимали сердце между ладонями, прогоняя какое-то количество крови через легкие и тело. Десятки раз включали этот аппарат, а оно продолжало фибриллировать, хотя из-под электродов уже пахло жженым мясом. Потом бессильно опускали руки и говорили: смерть.
А теперь оно идет. И хорошо сокращается! Еще немножко погреем с машиной и остановим ее. Удача! Я готов кричать от радости.
Это безжизненное тело снова станет Сашей, милым, умным Сашей!..
- Давайте удалять дренаж из желудочка.
Да, пора. Наверняка эмболии не будет, потому что уже минут двадцать, как через трубку не проскользнуло ни одного пузырька воздуха. Мы уж смотрели за этим тщательно. Второй раз дураками не будем.
- Ну, взяли! Маша, ты удаляй трубку, а я затяну кисетный шов. Ну... Раз!
- О боже! Держите! Отсос, скорее, черт бы вас!..
Я не знаю, что стряслось, но трубка удалена, а дырка в сердце зияет, и при сокращении из нее ударила струя на метр. Конечно, только одно сокращение. На следующее она уже зажата кончиком пальца. Ох, чуть легче...
Теперь нужно эту дырку зашить. Совсем не просто, когда сердце сильно сокращается и верхушка прыгает в руках, а одной рукой нужно держать отверстие. Но можно. Не первый раз. Тем более, машина еще работает, поэтому опасность смерти от остановки сердца не грозит.
Но все оказалось гораздо труднее, чем думалось. Не отпуская пальцев, я наложил новые швы. Однако как только я их затянул, мышца расползлась под нитками, и дырка открылась. О проклятие! Дыра еще больше. Много больше! Кровь хлынула струей. Я сунул в дырку два пальца, а все равно мимо них текло.
Вмиг исчезли мир и покой. Все стало злым и острым.
Шел человек по льду спокойным зимним днем и вдруг провалился. Черная вода заливает, он барахтается, кричит, а лед ломается под руками, и черная вода заливает все кругом... Алая кровь, много...
Что делать?! Что делать?!
- Заплату! Марина, давай заплату из аиволона! Скорее! И приготовь хорошие швы на большой игле. Отсос! Отсос! Не тянет. Вы, там...
Эпитеты.
Нужно положить заплату, как пластырь под пробоину в судне. Только это трудно - наложить заплату, когда сердце сокращается под руками, а иголки крутятся в иглодержателе.
Я не знаю, сколько это продолжалось. Сначала маленькая заплата. Не держит - из-под ее краев бьет кровь. Потом сверх нее другая, большая, почти с ладонь. Много швов по ее краям. Кровь из раны отсасывается насосом и нагнетается в машину. Отсос часто не успевает, и часть крови стекает через края раны мне на живот и на пол. Уже хотел снова охлаждать больного и останавливать сердце. Но это была бы смерть.
Нет, удалось. Прекратилась. Только тоненькие струйки сочатся из-под заплаты. Еще несколько швов - и все сухо.
Все сухо. Отсос выключен. Сердце работает, но много слабее - еще не успели восполнить кровопотерю. Переливаем. Лучше.
Смотрю кругом. Вид у всех измученный и несчастный. Радости уже нет. Все еще под властью пережитого и не верят, что все наладилось. И правильно - теперь жди новых напастей.
...Мы благодушествуем в комнате сестер. Я как мешок свалился в кресло и не могу двинуть даже пальцем. Так устал. Много я в этом кресле пережил грустных и приятных минут после операций. Сижу, без конца зеваю. Кислородное голодание, будто меня самого оперировали.
Стульев, как всегда, мало, поэтому расположились кто где - на столе, на подоконнике. Все курим, окно открыто. Воздух майский.
До чего приятно, когда работа сделана, когда все хорошо. Когда Саша там лежит живой. С новым клапаном. Когда при нем его жизнь и то письмо, которое я теперь могу не читать.
А впрочем, дело не в Саше. Окажись на его месте любой другой, нам было бы так же хорошо. Все больные дороги после тяжелых операций. В них вкладывается труд... Не знаю, как объяснить.
Мы еще не остыли, и все разговоры крутятся около операции. Это Вася:
- Я не сомневался, что вы справитесь.
- Ты нет, а я сомневался. Конечно, зашили бы в конце концов... Машина же работала... Но цена! Вон гемолиз как подскочил. Ты еще молод, не можешь охватить всего объема информации.
- А все-таки что произошло? Видимо, нитка порвалась. Ведь не могла же мышца прорезаться на всех четырех стежках сразу?
Это Мария Васильевна. Она сидит измученная, как и я, не в силах двинуться.
- Сам не знаю. Нитка оказалась в руках, и я ее бросил куда-то. Нужно было скорей затыкать дырку. Тут не до анализа.
Вася пьет воду. Я тоже хочу пить, потому что вся моя рубаха и брюки мокрые от пота. При таких страстях я терял в весе до двух килограммов. Когда-то проверял.
- Что ж, ребята, пожалуй, клапаны вшивать можно?
Нужно записывать протокол операции. Не хочется. Нудное дело, но деться некуда. Однако тут такой шум, что не дадут. Отправить их, может быть? Нет, не стоит. Им приятно здесь, и они заслужили. А так пойдут - и момент будет потерян. У каждого найдутся свои дела... Атмосфера рассеется, и снова ее не создашь.
- Женя, может быть, пойдем ко мне в кабинет, там запишем операцию?
Жене явно не хочется - видно по лицу. Тут хорошо. Не так часто бывает, когда все равны - и профессор, и ординатор. Но надо идти. Начальство велит.
Бросил сигарету, забрал журнал и историю болезни. Готов.
И мне не хочется. Но нужно. Кроме того, переодеться. Я весь мокрый. Простужусь, пожалуй. Сейчас это мне не безразлично. Я еще хочу делать операции.
Кабинет. Он совсем неплох. Стены покрашены в хороший цвет. Светло. Занавески только старомодные, с пупышками. Нужно сменить на яркие. А впрочем, какая разница? У меня с годами все меньше и меньше тяга к вещам. Пожалуй, к старости пойму Диогена. Если бы в бочке была ванна.
- Садись, приступим.
Долго пишем - я в журнал, он - в историю болезни. Вспоминаем, чтобы не забыть чего, не исказить. Операция еще новая - приходится записывать подробно. Потом протоколы будут все короче и короче, пока останутся одни "обычно", "обычные"...
...У меня сейчас какое-то особенное состояние. Подъем, ясность, свобода мысли. Совсем иначе, чем до операции. Тогда был придавлен ожиданием опасности. Тянулась только одна ниточка - операция и все с ней связанное. Тоже подъем, но совсем другой - целеустремленный и неприятный. Страшно, но нужно. И - сожмись! А сейчас все открыто, все интересно и ново.
Писать закончили, и Женя пошел.
Шесть тридцать. Уже час после операции. Посижу еще пару часов и пойду. Если все благополучно. А, не загадывай! Кровотечение, почки, отек легких. Много всяких бед ожидает.
Покурим. "Меняю хлеб... на горькую... затяжку..." Песня.
Музыку бы сейчас послушать. Нужно магнитофон завести, как в лучших домах. Есть такие профессора, что все пишут на магнитофон.
Ерунда, твоя канцелярия слишком мала... Разве что песни. Но сколько таких минут, как сегодня, - чтобы и радость и время?
Что же все-таки делать? Не читать же скучные диссертации? Как они надоели! Вся жизнь ученого - с диссертациями. Сначала пишешь сам, потом руководишь, рецензируешь, слушаешь на ученых советах.
Смешно - я ученый. Никак я с этим внутренне не соглашаюсь. Я - доктор, врач.
Спуститься к ребятам, поболтать? Не получится. Я с грустью чувствую, как все больше и больше отдаляюсь от них. Возраст, что ли? Или стал зазнаваться, как некоторые говорят? Неверно. Хотя бы потому, что честно, сам перед собой, я не вижу никаких оснований. Хороший доктор. Но из них, ребят, многие будут лучше. Это моя главная мысль, первым планом. А где-то ниже жужжит другая, спесивая: "Все-таки Я - это Я. Сделал то-то и то-то, что другим не удалось. Последнее - клапан. Научных работ кучу написал, несколько книг. Диссертаций сколько от меня вышло..." Дерьмо ты! Выпусти только эти мысли на волю - и живо вообразишь, что в самом деле чего-то стоишь, что ты ученый. Не заблуждайся: трудам твоим грош цена. Пройдет несколько лет, и никто их читать не станет, все безнадежно устареет. Прогресс хирургии остановить нельзя. Сначала оперировали желудки, потом пищеводы, потом легкие. Теперь - сердца, а в них - клапаны. Мои статейки и книги о хирургии желудка и легких в какой-то степени пройденный этап, никому не интересны, то же будет и с работами о сердце. Но мысли - эгоисты: "Я все-таки способствовал этому прогрессу". Да, конечно, хотя и не был первооткрывателем. Но какое это имеет значение? Разве это хоть чуточку изменило мир? А ты хочешь изменить? Да, хочу. Все хотят. Чтобы не было войны, чтобы все люди стали хорошими.
Только наука изменит мир. Наука в широком смысле: и как расщеплять атом, и как воспитывать детей... И взрослых тоже.
Вот Саша - ученый. Ах, как здорово, что он живой! Медицина пригодилась. Много я от него почерпнул, от Саши. Моя медицина стала гораздо яснее. Вырисовался какой-то скелет науки, который нужно только одеть цифрами. Саша объяснил: настоящая наука начинается, когда можно считать. Это будто еще Менделеев сказал.
Может быть, почитать Сашину тетрадь? Мне кажется, что я теперь имею на нее некоторое право. На письмо, пожалуй, нет - это слишком интимно, а тетрадь - там, наверное, наука? Небось ничего не пойму. Математика. Как жаль, что я ее не знаю. От формул меня сразу начинает поташнивать, и я тороплюсь заглянуть дальше или вообще закрыть книгу.
Все-таки любопытно, что там написано. Хотя бы перелистать.
А не просмотрят они там, в операционной, чего-нибудь? Прошло... Сколько? Всего десять минут, как ушел Женя. Посижу еще. Опытные ребята наблюдают за ним. А я так устал, что и подняться трудно. Старость. Чаю бы попить... Жаль, что в свое время не завел таких порядков. Придется терпеть.
Листаю. Странная тетрадь. В науку вкраплены записи, как в дневнике. Явно не для печати.
"Грустно сознавать, что скоро умрешь. Останутся от меня только модели - статьи, вот эта тетрадка, письма, в которых есть ложь, образы в памяти людей и фотографии в альбомах - но все застывшее, неподвижное. Хорошо бы оставить после себя хотя бы действующую модель..."
Помню эти разговоры. Зачем оставлять? Иллюзия бессмертия. Да, припоминаю его другую трактовку. Человек как биологическая система исчезает. Но если рассматривать более высокую систему - человечество, то что-то остается.
В самом деле: человечество - это не только система из людей, но она включает и продукты их деятельности - модели мыслей: вещи, книги, картины, машины. Кроме того, остаются образы в памяти людей. И вот человек умирает, а эти модели еще продолжают жить своей собственной жизнью, отличной от жизни автора. Иногда она полезна для общества, потом может стать вредной. Обычно потому, что они - эти модели - мертвые, застывшие. Их жизнь пассивна. Теперь понятна мысль Саши - сделать действующую модель мозга, чтобы она могла жить и изменяться.
Ужасна двойственность человеческой природы. С одной стороны, биологически, он животное, как волк или обезьяна. А с другой - это член общества, элемент более высокой системы, принадлежит ей.
Ага! Начинается какая-то стройность. Общие представления о мире, о вселенной. Философия и математика. Вопрос о бесконечности. Не понимаю. Не буду пытаться.
"Элементы связи, системы, подсистемы..." Это понятно, он хорошо объяснил мне в свое время. Организм - это система, в которой элементы - клетки. Но клетка - тоже система, ее элементы - молекулы. Органы и их сочетания, выполняющие определенную функцию, - это подсистемы. Что-то подобное есть и в клетках - структуры из молекул. И человечество - тоже система. "Связи - это воздействия элементов или систем друг на друга, основанные на законах физики, - обмен энергией или материальными частицами..."
А люди? Они общаются между собой через слова и вещи. Конечно, это тоже физика, но какая-то сложная. Вот здесь объяснение: "Информация". Все привыкли к обычному значению этого слова - "сведения". Вот что он пишет: "При взаимоотношениях сложных систем действует не только само физическое воздействие, но и изменение его во времени и пространстве, которое улавливается и запоминается в виде модели - то есть изменения какой-то структуры. Пример: один человек что-то говорит другому. Произнесенные слова - это физические колебания воздуха. Но они почему-то не действуют, скажем, на кошку. Потому что человек умеет выделить из колебаний воздуха информацию, которая представлена смыслом слов. Для этого наш орган слуха воспринимает колебания воздуха, превращает их в нервные импульсы. Они идут в мозг и последовательно запоминаются, то есть отражаются в коре мозга в виде образа - модели, составленной из нервных клеток. В корковой модели отражены не сами колебания воздуха, а только их последовательность во времени, которая и представляет собой информацию. Вместо звуков можно взять буквы, воспринимаемые глазом. Будут зрительные образы - модели, но из них извлекается та же информация - последовательность знаков дает смысл словам".
"Информация невозможна без моделирования. Модель - это всегда какая-то структура, отражающая или систему, или изменения физического воздействия в пространстве и во времени. Домик из кубиков - это модель системы настоящего дома. Слова, записанные на бумаге, - это модель, структура, в которой отражена последовательность звуков речи. Чертеж машины - это модель. Ноты - модель. Математическая формула тоже. Когда мы видим картину, то в нашей коре отпечатывается ее модель - образ. Каждый знает, что модели могут быть примитивные, имеющие отдаленное сходство с оригиналом, и точные, приближающиеся к нему. Детский рисунок дома - примитивная модель, а инженерный чертеж - точная".
Много интересных вещей написано, но сложно: информация, модели... Зачем? Жили и без них. Физика, химия, материализм. Оказалось - недостаточно. Я уже от Саши кое-что усвоил - он терпеливо объяснил, - но и сейчас смутно...
Вот новый раздел - "Познание".
"Познание - это моделирование. Мозг - колоссальная моделирующая установка. Что такое "знать"? Это значит знать структуру предмета - системы, его связи с другими, его изменения во времени... Это все - информация о системе, заложенная в нашей коре в виде образов, составленных из нервных клеток. Это и есть модели. Иногда мы знаем точно - подробные модели. В другой раз - приблизительно - примитивные модели. Но мы никогда не знаем "до конца", потому что модель никогда не может быть абсолютно точной копией оригинала. Тем более модель из нервных клеток..."
Да. Мозг - моделирующая установка. Вычислительная машина - тоже. Она моделирует цифрами сложные логические действия. Будто бы никакой принципиальной разницы между ними нет. Не так легко понять эту механику воспитанному на "качественных отличиях" живого от неживого. Впрочем, что значит "понять"? Это "привыкнуть и уметь пользоваться". Слова кого-то из великих физиков. Я не умею пользоваться и потому не понимаю. А просто верить не хочу.
"Пределы познания одного человека. Любая моделирующая установка не может во всех подробностях воссоздать в виде модели структуру системы более сложной, чем она сама. В лучшем случае она воспроизведет главные структурные элементы, возможно определяющие основную функцию системы-оригинала. Чем сложнее моделирующая установка, тем более точную модель она может создать. Если иметь тысячу кубиков, то из них нельзя сделать точной модели целого города. Если взять миллиард - то модель будет много точнее".
"Так же ограничена и скорость переработки информации - скорость моделирования, скорость познания. Ограничено и предельное количество моделируемой информации. Хорошо, что человеку свойственно "забывать" и освобождать свою кору для новых сведений!"
Видимо, это очень важно для нас, медиков. Вот что он пишет:
"В коре пятнадцать миллиардов клеток. В организме человека - свыше трехсот миллиардов. Следовательно, организм в целом гораздо более сложная система, чем мозг. Если же учесть, что каждая клетка состоит из многих миллиардов различных молекул, то сложность организма невообразима. Можно ли предполагать, что корковые модели организма будут достаточно полными? Видимо, нет. В лучшем случае мы можем рассчитывать на очень примитивные образы. Хорошо, если из числа многочисленных структурных единиц организма мы смоделируем главные. Тогда хотя бы в общих чертах можно понять функцию органов и систем настолько, чтобы управлять ими. К сожалению, и это маловероятно. Беда в том, что организм - это такая система, в которой не только поведение целого определяется функцией его частей, но и, наоборот, жизнь частей зависит от жизни целого. Следовательно, чтобы понять (смоделировать) организм, аналитический подход несостоятелен. Нужно создать более или менее точную "действующую модель" организма, в которой объединяется жизнь элементов и жизнь целого".
Печально. Значит, мало сделать так: один ученый в деталях изучает клетку, другой - моделирует на уровне органа, третий - объединяет в одно целое.
До сих пор все медики так думали. Деятельность органа определяется работой клеток, жизнь целого организма - функцией органов. Теперь ясно - этого недостаточно. Это действия "снизу вверх". Клетки зависят от поведения организма в целом. Прямые и обратные связи. Поэтому тот, кто хочет понять весь организм, должен одновременно понимать и клетки, и органы, и их системы. Выходит, это невозможно. Или, вернее, можно, но только очень приблизительно. Именно так мы и понимаем. И, исходя из этих моделей, так же приблизительно лечим. Если часто удается, то только потому, что организм - саморегулирующаяся и самонастраивающаяся система, и все неточности нашего внешнего управления она компенсирует сама.
...Интересно - "пределы познания". Нужно вдуматься. Мой мозг ограничен. Для очень сложной системы я могу построить только приблизительную модель. Ну, а простую можно представить во всех деталях. Тысяча кубиков. Из них можно построить точную модель маленького домика, но Московский университет воспроизвести лишь в общих чертах.
Предел скорости - это тоже ясно. Процесс запоминания идет с определенной скоростью, не больше.
...Как-то там дела в операционной? Вывезли его в палату или еще нет? Нет, конечно. Прошло всего тридцать минут, как я ушел. Пойти или еще почитать?
..."Сложные системы имеют управляющие структуры. В них заложены модели сложных и длительных программ, построенные по этажному принципу. В частности, огромный набор программ двигательных актов хранится в коре головного мозга. В самом верху - идея какого-нибудь трудового процесса, например, операции у хирурга. Она состоит из крупных блоков - двигательных актов: разрез кожи, вскрытие плевры и прочее. Модель каждого такого акта составлена из элементарных движений, они включаются по мере выполнения предыдущего, после получения сигналов по линиям обратной связи. Так дело доходит до элементарных химических процессов в мышечных волокнах рук. Набор вариантов программ очень велик - они выбираются в зависимости от внешних условий..."
Это он с моих слов, наверное, написал о программе операции. Я ему рассказывал о нашем священнодействии. Смешно? Нисколько. Это слишком серьезно.
Все-таки как трудно поверить, что программы управляют мной в любой момент жизни. Что нет чего-то высшего, объединяющего, невоспроизводимого.
Картинка: жестокий спор на заседании хирургического общества. Я обозвал одного профессора тупицей и убежал из зала, хлопнув дверью. Потом сидел в раздевалке на окне. Было мучительно стыдно. И все это было заложено в моих нервных клетках заранее? А демагогия этого типа только реализовала мои программы? Конечно, клеток пятнадцать миллиардов, и каждая связана по крайней мере со ста другими. Математики высчитали какое-то несметное количество возможных комбинаций, цифру с десятками нулей. Не могу представить, как это много.
Вторая картинка: мне шестнадцать лет. Родной город. Парк "Соляной городок" (почему "Соляной"?). Вечер. Скамейка под тополем. Мы сидим с Валей. Я читаю Есенина. (Тогда все мы были без ума от него.) Про себя шепчу: "Валя, Валечка". Ладони мокрые от волнения. Еще не хотелось ни обнимать, ни целовать. Весь переполнен таким чувством, которое можно назвать только старым словом - возвышенное. Готов за нее на что угодно. Умоляю, чтобы случилось. И это тоже программа? Нет, не могу поверить.
...Вот по этому поводу: "Программы поведения человека". Надо думать, Саша попытается дать кибернетический ответ на извечный вопрос "что есть человек?", "как познать самого себя?".
Нет, здесь написано слишком много. Мне нужно идти вниз, взглянуть. А все-таки любопытно. Посмотрю бегло. Многое знакомо.
..."Деятельность человека, как и любой другой системы, осуществляется по программе, то есть она предопределена структурой организма на каждый данный момент. Программы меняются по мере их исполнения и под воздействием извне, как и в технических самоорганизующихся системах. Однако пределы изменений ограничены самой структурой.
Следовательно, нет никакой принципиальной разницы между человеком и машиной. Все дело только в сложности структуры, которая определяет сложность и разнообразие программы поведения. Этот вывод не должен пугать своей кажущейся механичностью. Нужно ясно представить огромные различия в сложности программ".
Нет. Я это представить не могу. Никогда машину нельзя сделать такой сложной, как человек.
"Иногда говорят о "свободе воли", отличающей человека. Мне кажется, что это фикция. Все наши свободные решения, как бы они ни были неожиданны для окружающих, предопределены программами, которые включаются и переключаются внешними и внутренними раздражителями. Другое дело, что их трудно познать, "смоделировать".
У человека есть два типа программ: "животные" и собственно "человеческие". Первые достались нам от предков, а вторые постоянно прививаются обществом, как более высокой системой. Воздействия оказываются через людей и вещи. Влияние общества огромно, без него человек остается животным. За это говорят примеры детей, воспитанных волками и обезьянами.
Мысль о животных. Наши младшие братья. Они любят, ненавидят и, самое главное, страдают. А их так безжалостно бьют. Человек жесток. Например, эти охотники. Я понимаю - уничтожать хищников. Но зачем птиц, белок?
Сантименты. Что животных, если люди еще не научились жалеть друг друга? Впрочем, в будущем обществе и в этом плане наметятся какие-то сдвиги к гуманизму. Химия будет поставлять бифштексы.
Вспомнил новый рассказ о верности.
Сибирь. Тайга. Охотник нашел волчонка и воспитал. Большую часть времени они жили одни в лесной избушке.
Когда появлялись в деревне, волчонок не признавал никого. Наверное, человек его очень любил...
Сорок первый год. Призыв в армию. Горестное прощание. Он оставил волка старику охотнику.
Три года войны, страданий. Вернулся хромой. Семья распалась. Старик рассказал, что волк не захотел есть и сразу ушел в лес. "Ну, что же..." В избушке он увидел: выломано окно, на стенах внутри много следов когтей. И скелет волка на полу.
"Человеческая кора по своему строению отличается от животной несколькими лишними "этажами", позволяющими создавать большие модели, охватывающие продолжительные события и сложные системы. Они создаются в процессе обучения и воспитания. При этом включается своеобразный механизм с положительной обратной связью, который я называю "принципом самоусиления".
Известно, что если клетку постоянно возбуждать, она подвергается гипертрофии, то есть увеличивается в объеме и усиливает функцию. Это основной механизм клеточного приспособления. Такая же история происходит и с человеческой корой. Многие клетки ее постоянно "работают", в результате чего они гипертрофируются - начинают выдавать больше импульсов на одни и те же раздражители. Это влечет за собой превалирование данной модели над другими - доминирование. Оно представляет главный секрет человеческой психики. Благодаря гипертрофии, усилению, кора у человека, живущего в цивилизованном обществе, в некоторых случаях способна выйти из подчинения подкорки.
Сначала у человека, как и у животного, внутренние потребности организма диктуют поведение - поиск пищи при голоде, нападение или бегство от врага. Программы инстинктов совершенствуются корой - в памяти закрепляются модели сложных двигательных актов, направленных на удовлетворение инстинктов.
Это корковые этажи программ инстинктов.
Но кроме этого человеку с младенчества прививают другие модели - правила общественного поведения, правила морали, этику. Даже если ты голоден, должен поделиться с ближним, пожалеть его. Ты должен заступиться за чужого ребенка, не должен красть, убивать, обманывать. Этот элементарный моральный кодекс человека установлен очень давно, еще до возникновения современных религий.
Однако не нужно преувеличивать. Социальные программы могут пересилить инстинкты, но это нелегко дается и далеко не всегда осуществляется. Когда инстинкты напряжены сильно, то они могут сорвать все моральные принципы, привитые воспитанием... Нужно учесть, что люди очень разные и так же различно у них соотношение мощи врожденных и приобретенных программ.
Отсюда нужно сделать главный вывод: общество должно не только обеспечить воспитание - привитие правильных социальных программ, но также и создать условия, исключающие перенапряжение инстинктов, например, самосохранения или страха за потомство".
Да. Все понятно. Это не только чтобы не было голода, это и правильные законы о браке и разводе, и жилища, и даже еще одно - не слишком ограничивать так называемый "рефлекс свободы". Дело в том, что у животных, имеющих кору головного мозга, всякое ограничение вызывает бурную реакцию, направленную на преодоление этого ограничения.
Другой план мыслей: страсти и их подавление. Голод. Ассоциация - Ленинград. Родина. Масса людей подавляли голод - одно из самых сильных чувств. До смерти.
И другие примеры - совсем наоборот. Из-за женщин, из-за выпивки, из жажды денег продают все святое. Преступники. Читаешь об этом в газетах и думаешь - почему?
А сам? Нет, не идеал.
Нужно мне идти.
Вон уже почти семь часов.
Выкурю сигарету и пойду. О чем там дальше речь? Беллетристику опустим. Это я потом прочитаю. И лирику тоже. Да, вот еще интересные разделы.
"Итак: ограниченность, увлекаемость и субъективность делают человеческое поведение запутанным, непоследовательным и часто нелогичным".
Что же - нужно с этим мириться, иметь терпение понять, и объяснить, и воспитывать. С нормальны ми людьми это возможно.
Вот еще интересная глава: "О счастье". Тут немного, прочтем. "Мечта о счастье..."
Дверь распахнулась.
Кто-то в белом.
Крик:
- Остановка сердца!
- О!
Срываюсь. Бегу. Много ступенек. Обрывки мыслей:
"Конец. Теперь конец! Ну почему? За что?" Распростертый Саша... Труп? Дима стоит на табуретке и толчками надавливает на грудь. Закрытый массаж сердца. Леня яростно сжимает дыхательный мешок. Оксана ломает руки. Суетятся сестры. Лица бледные, испуганные глаза. Отчаяние.
- Адреналин, адреналин ввели?
- Не успели, мы массаж скорее...
- Марина, один кубик!
Я сам, сам хочу массировать. Наверное, я лучше. Дурак. Молчи. Дима делает хорошо.
- Оксана, что видно?
- Ничего не вижу из-за массажа. Помехи.
Нет. Ничего не сделать! Как можно, как можно... Сидел, читал... "Ученый"!
- Дима, остановись на секунду. Ну что?
Тишина. Напряжение. Оксана смотрит. Кажется, прошла вечность. Шумно вздыхает:
- Есть редкие сокращения!
- Массируй дальше! Адреналин!
Давай! Давай! А вдруг удастся? Еще!
Наклейка с раны уже сорвана.
- Одну секунду!
Длинная игла прямо в сердце. Кубик адреналина.
- Массируй!
Минута. Вторая. Молчание.
В душе темно. Отчаяние. За что? За что? Не нужно сетовать. Никаких возмездий! Все ясно. Мы дураки. Ограниченные моделирующие возможности. Но мне же от этого не легче! Я же не машина, я живой.
А вдруг удастся? Заглянуть.
- Дима, остановись. Оксана, смотри. Кто-нибудь щупайте пульс. А ты не прекращай дыхание! Что - не знаешь?!
- Хорошие сокращения, около ста в минуту!
- Пульс есть!
Впрочем, это уже не нужно: видно, как сотрясается грудная клетка. Сердце заработало хорошо.
- Зрачки?
- Узкие. Они сразу сузились после массажа. Ох! Этот вздох вырвался у всех. Лица просветлели, глаза другие. У меня внутри все дрожит, и в то же время по телу медленно расходится какая-то слабость. Вот-вот упаду.
- Дайте сесть. А ты слезай, что стоишь, как дурак.
Это Диме. Он все еще стоит на табуретке, выпрямившись над столом, длинный и нескладный.
Саша от меня снова ушел. Лежит какой-то человек без сознания. Чужой. И сам я совершенно пуст. Я знаю, что может случиться дальше, поэтому еще не радуюсь.
...Мелькают мысли. Милосердие. Это слово совсем вышло из употребления. Наверное, зря. Не нужен "бог милосердный", но "сестра милосердия" было совсем не плохо. Когда-то это проповедовалось, а теперь нет. Никто не говорит о жалости к ближнему как душевной доблести человека.
Жалость, сострадание, как чувство, имеет два источника: от инстинкта продолжения рода - главным образом. Это касается любви к маленьким и слабым. И от корковых программ воображения переноса чужих ощущений на себя. Даже у собак: одну бьют - другая скулит от боли.
Естественные основы для милосердия есть. Когда человеку - ребенку - прививаются правила общественного поведения, то эти основы можно значительно усилить. Не в равной степени, но всем. Кора должна поддерживать хорошие инстинкты, а не подавлять их.
Больше всего это касается медиков, постоянно имеющих дело со страдающими людьми. Кажется, что сострадание должно у них возрастать с каждым годом работы, за счет упражнения корковых моделей чувств. Но этого в большинстве случаев не происходит. А жаль.
Привычка. Замечательный механизм - приспособление к сильным раздражителям, которые сначала выводят организм из равновесия, а потом перестают действовать. Эти программы работают, начиная от уровня клеток и кончая самыми высшими психическими функциями. Чужое страдание причиняет боль. Но к ней человек приспосабливается, как и к своей. И она становится слабее. В один прекрасный день врач или сестра обнаруживают уменьшение жалости. Конечно, большинство этого не замечает, но кто захочет покопаться в собственных чувствах и вспомнить старое, тот найдет это в себе в какой-то степени. Ничего не сделаешь - защитная реакция. Немногие ей не поддаются. У них, этих немногих, гипертрофия "центров жалости". Она обгоняет механизм привычки к боли. Эти люди несчастные, если они работают в таком месте, как наше. Правда, им доступно и величайшее удовлетворение при победе над смертью. Блаженство, похожее на ощущение после внезапного прекращения сильной физической боли.
К сожалению, сами пациенты активно подавляют милосердие у медиков. Когда человек делает доброе дело, он хочет за него награды. Он даже не осознает этого, но хочет. Не денег, не подарков, но просто выражения каких-то ответных чувств. Они подкрепляют его условные рефлексы сострадания.
А ведь нельзя сказать, что больные балуют нас этим. Сделал врач операцию, все хорошо, а когда больной выписывается, даже спасибо не скажет, проститься не зайдет. Ссылаются, что "вам некогда, я стесняюсь беспокоить". Мне в самом деле некогда, и я не могу устраивать специальных приемов для получения благодарностей. Но он-то может найти время...
Не стоит об этом думать. Я уже стар и все понимаю. И не осуждаю - я это пережил. А помню, в молодости горько было.
Одна старая докторша, гинеколог, много лет проработавшая в небольшом городе и спасшая многих женщин, говорила мне:
- Я же вижу, как она переходит на другую сторону улицы, если надеется, что я еще ее не заметила... Но.. не обижайтесь на них. Представьте, что вам дали в долг много денег, вы не можете их вернуть и от вас их не требуют и не ожидают. Вы очень благодарны этому человеку, но разве вам приятно с ним встречаться? Чувства неоплатного должника.
Пожалуй, она права. Но мне от этого не легче. Хочется получить что-то взамен. По крайней мере, хотелось раньше...
Должны же люди знать, что, спасая тяжелого больного, врач отдает не только труд, за который он получает зарплату, он отдает кусочек своей души.
Должен отдавать, если он настоящий и если у него есть еще милосердие.
Грустно становится, когда наблюдаешь, как между медиками и пациентами наматывается клубок взаимных обид и делает этих людей чужими, а иногда и врагами. Может быть, я смотрю со своей колокольни, но в этом процессе врач тоже страдающая фигура.
...Не буду заглядывать в операционную. Не хочу мешать. Всегда что-нибудь не так делают, это раздражает. Устал бороться со всякими мелкими дефектами. Утром еще на это хватает энергии, а вечером - нет.
Итак, день окончен. Похоже, что сегодня Саша не умрет. Я могу поспать. Домой нельзя - вдруг что-нибудь случится. Медицина - наука неточная. Сказать тете Фене, чтобы постелила в кабинете. И неплохо бы чаю. Маловероятно: раздатчицы ушли, а у санитарок нет. Но вдруг?
Разыскал ее, сказал. Посмотрела уважительно.
Хорошая старуха. Сколько наших пациентов вспоминают тебя добрым словом! И скольким ты закрыла глаза!
- Я сейчас пойду к старшей, в столе посмотрю. Где-нибудь найду, не беспокойтесь.
Я не беспокоюсь. Можно и без чаю.
Снова в кабинете. Черт бы его взял, как он мне надоел сегодня!
Откроем окно. Теплая влажная мгла. Мелкий дождик. Очень полезен для молодой зелени. Как они пахнут, листочки тополя! Не надышался бы.
Победа. Победа над смертью. Высокопарно. Не люблю фраз, но они сами лезут. Крепко вбиты книгами, газетами, радио.
Рад? Конечно. Саша живой. Будет думать, говорить, писать. Представляю его на этом стуле, напротив: развивает свои теории. Глаза блестят, жестикулирует.
Стоп! Не фантазируй раньше времени, еще есть достаточно опасностей. Не буду.
Но все-таки той радости, как бывало в молодости, нет. Устал. Вот эта битва, может быть, она выиграна. (Чур меня! Смешно.) Наверное, выиграна. Это приятно. Очень. Но я чувствую, как на мою душу все равно лег еще один слой чего-то темного и тяжелого. Не могу объяснить. Наверное, это слои страха и горя. Мало ли их сегодня пережито?
Картина: хлещет кровь из дырки в желудочке, и весь я сжался от страха и отчаяния. Ничего больше нет в душе - только страх и еще несколько нервных центров, бешено работающих, чтобы победить. Удалось. А могло быть иначе: масса крови вытекла. Сердце опустело. Массаж, вялые, редкие подергивания. Все во мне кричит:
"Ну, сокращайся же, сокращайся, ради бога!" Совсем остановилось. Стоит. Все опустили руки. Минуту стою, ничего не понимаю. Иду прочь. "Зашивайте". Пустота. Завидую: умереть бы.
Еще одна: Дима стоит на табуретке над столом, с остервенением нажимает на грудь - массирует сердце. Пот со лба, в глазах страх. Оксана бегает около своего экрана и ломает руки. Короткие мысли: "Все! Остановка сердца. Не пойдет. Если и пойдет, то все равно остановится". Мне нечего делать. Стоять и ждать. И еще кричать. Гнев на них на всех - "прозевали, стервы!". Всякие другие слова. А сам? Сидел там в кресле, развалился, кибернетику читал. Страшная досада на себя, на медицину. Голос Оксаны: "Сокращений нет". - "Кончай, ты..." Все стоят неподвижно, убитые.
Ладно, дальше не надо представлять. На этот раз все кончилось хорошо. Более или менее хорошо. Но тяжесть все равно легла.
Она и все прежние мешают мне радоваться.
Тогда брось! Можно найти спокойную работу. Будешь читать лекции студентам, оперировать грыжи, иногда - желудок, желчный пузырь. Тоже будут неприятности, но меньше, если тяжелобольных предоставлять терапевтам и самим себе. Будешь заниматься с внучкой, читать хорошие книги, ходить в театр. Даже раздумывать о теории медицины и писать разные книги. Комфорт, благодать... И за те же деньги. Деньги - второй план. Не совсем, конечно, но того, что есть, достаточно.
Тетя Феня принесла чай. Два стакана, несколько кусочков белого хлеба. Даже на чистом полотенце.
Как приятен горячий чай, когда весь рот ободрало табаком! Пожалуй, я бы съел что-нибудь более существенное. Обойдусь.
Устал. Ноет спина. Тяжелая голова. А в то же время чувствую - не усну. Срыв. Снотворные? Подожду. Нужно держать себя в руках.
Саше нужно снотворное назначить. Наверное, Дима сам догадался. Или сходить? Не могу подняться. Догадаются.
Что мы завтра оперируем? Операцию с АИКом отменили. Зря поддались слабости. Может быть, еще можно вернуть? Не стоит. Матери уже сказали, что не будет. Материнское сердце не игрушка - взад да вперед. Вместо этого Лени возьмем взрослого. Сорокина, с сужением аорты. Его Петро прооперирует. Кровь той же группы. Да, возьмем. Только, кажется, там есть отложения извести в клапане. Придется самому побыть, чтобы включиться, если будет трудно.
Да, я же хотел завтра пораньше уйти, чтобы пописать. Статью давно нужно отправить. Ничего, подождет еще. Подождет... Как хорошо вот так устать, а потом лежать вытянувшись... Если бы не завтрашний день... не заботы... постоянно новые заботы...
"Наука и жизнь", 1965 год.