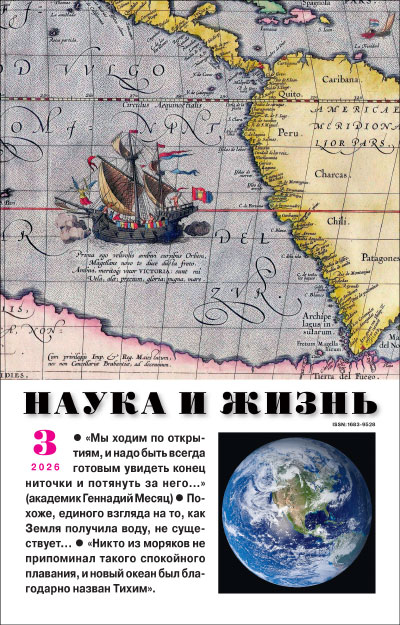"ОЧИСТИЛ ОТЕЧЕСТВО ОТ СЛЕДСТВИЙ ЗАРАЗЫ"
Именно под впечатлением дня 14 декабря и выяснившихся при допросах декабристов обстоятельств Николай I был обречен взять на себя роль "душителя революций". Вся его последующая политическая линия - оправдание тезиса, провозглашенного в манифесте, обнародованном по завершении процесса над декабристами, что суд над ними "очистил отечество от следствий заразы, столько лет среди его таившейся". Но в глубине души уверенности, что "очистил", все же нет, и одним из первых шагов в начале царствования Николая I стало учреждение (25 июня 1825 года) Корпуса жандармов и преобразование Особой канцелярии МВД в Третье отделение собственной канцелярии. Во главе его встал преданный А. Х. Бенкендорф. Цель - охрана режима, предотвращение любых попыток изменить самодержавный строй. Сфера деятельности новообразованного органа тайной полиции охватывала практически все стороны жизни страны, ничто не могло пройти мимо бдительного ока шефа жандармов и самого императора, любившего, как он признавался, доносы, но презиравшего доносчиков.
По донесениям массы "слушающих и подслушивающих" (А. И. Герцен) на всей огромной территории страны начальник Третьего отделения с благословения царя "судил все, отменял решения судов, вмешивался во все". Как писал наблюдательный современник, "то был произвол во всем широком значении этого слова... Вообще, если русское общество относилось к чему-нибудь с единодушным порицанием, то это к Третьему отделению и всем лицам... к нему причастным". В обществе стали гнушаться даже простым знакомством с теми, кто носил синий мундир.
В череду охранительных мер органично вписывается и Цензурный устав 1826 года, названный современниками "чугунным". Суровость его 230 (!) параграфов, по оценкам некоторых цензоров, такова, что "если руководствоваться буквой устава, то можно и "Отче наш" истолковать якобинским наречием". И здесь нет преувеличения. Так, утверждая к печати обычную поваренную книгу, цензор потребовал от составителя снять слова "вольный дух", хотя дух этот не шел дальше печи. Подобного рода вздорные придирки бесчисленны, ибо цензоры боятся допустить малейший промах.
Следующий шаг к ограждению общества от "вреда революционной заразы" - появление в августе 1827 года царского рескрипта об ограничении образования детей крепостных. Для них отныне оставались только приходские училища, доступ же в гимназии и в "равные с оными по предметам преподавания места" теперь перед крестьянскими детьми наглухо закрыт. Не бывать новым Ломоносовым! Как писал историк С. М. Соловьев, Николай I "инстинктивно ненавидел просвещение, как поднимающее голову людям, дающее им возможность думать и судить, тогда как он был воплощение: "Не рассуждать!" Он на всю жизнь запомнил, как "при самом вступлении на престол враждебно его встретили люди, принадлежавшие к самым просвещенным и даровитым".
С революционными событиями 1830 года в странах Европы, и особенно с польским восстанием 1830-1831 годов, крамольная "зараза", которую царь поклялся не допустить в Россию, опять подошла к ее порогу. Следуют новые, превентивного характера, меры. В Государственный совет по велению Николая I вносится записка "О некоторых правилах для воспитания русских молодых людей и о запрещении воспитывать их за границей" - дикий с точки зрения соблюдения элементарных прав личности акт. И в феврале 1831 года принимается постановление: под угрозой лишения возможности вступать на государственную службу детей от 10 до 18 лет обучать только в России. "Исключения будут зависеть единственно от меня по одним самым важным причинам", - предупреждает Николай.
А между тем царя постоянно сверлит мысль о пагубном влиянии польского общества на дислоцированную в Польше российскую армию - оплот режима. И он в декабре 1831 года отправляет командующему войсками в Польше генерал-фельдмаршалу И. Ф. Паскевичу паническое письмо: "Наша молодежь между их соблазна и яда вольных мыслей точно в опасном положении; молю тебя, ради Бога, смотри, что делается, и не принимается ли зараза у нас. В сем наблюдении ныне состоит как твоя, так и всех начальников самая первая, важная, священная обязанность. Надо вам сохранить России верную армию; в долгой же стоянке память прежней вражды скоро может исчезнуть и замениться чувством соболезнования, потом сомнения и, наконец, желанием подражания. Сохрани нас от того Бог! Но, повторяю, в сем вижу крайнюю опасность".
Для подобных опасений есть конкретный повод. Во время восстания полякам досталось множество секретных документов, принадлежавших великому князю Константину, в спешке бежавшему из Варшавы, и его советнику Н. Н. Новосильцеву. В их числе и так называемая "Государственная уставная грамота" - проект конституции для России. Поляки напечатали ее на французском и русском языках, она продавалась во всех книжных магазинах города, когда русская армия вошла в Варшаву. "Напечатание сей бумаги крайне неприятно, - пишет Николай I Паскевичу. - На 100 человек наших молодых офицеров 90 прочтут, не поймут или презрят, но 10 оставят в памяти, обсудят и главное - не забудут. Это пуще всего меня беспокоит. Для того столь желательно мне, как менее возможно продержать гвардию в Варшаве... Начальникам велеть обращать самое бдительное внимание на суждения офицеров".
Вот чем обернулись выказываемые в обществе восторги по поводу того, что с "новым царствованием повеяло в воздухе чем-то новым, что Баба-яга назвала бы русским духом", что "начался поворот русской жизни к ее собственным истокам". Этот пресловутый "русский дух" постепенно приобретал характер идеологического занавеса, все более отделяющего Россию от Европы.
ДВА МИРА: РОССИЯ И ЕВРОПАЦарствование Николая I, - пишет известный историк конца XIX - начала ХХ века А. Е. Пресняков, - золотой век русского национализма". И имеет полное на то основание, ибо в Николаевскую эпоху "Россия и Европа сознательно противопоставлялись друг другу, как два различных культурно-исторических мира, принципиально разных по основам их политического, религиозного, национального быта и характера". Следствие не замедлило явиться. В начале 30-х годов обществу была представлена так называемая теория "официальной народности". Ее создание традиционно связывают с именем министра народного просвещения С. С. Уварова, автора известной триады - "православие, самодержавие, народность", которая и должна была стать "последним якорем спасения" от "революционной заразы". Именно на этих понятиях, считал Уваров, нужно строить воспитание подрастающего поколения, подчинив им литературу, искусство, науку и просвещение. Николай I с удовлетворением воспринял идею Уварова и стал активно проводить ее в жизнь.
Можно быть уверенным, сколь по душе пришлись самодержцу и слова Н. М. Карамзина, воспевавшего в труде "О древней и новой России" "старое доброе русское самодержавие": "У нас - не Англия, мы столько веков видели судью в монархе и добрую волю его признавали вышним уставом... В России государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит и любовь первых приобретает страхом последних... В монархе российском соединяются все власти, наше правление есть отеческое, патриархальное".
Николай I искренне убежден: самодержавие, без которого нет подлинной власти, ему даровано свыше, и он делает все для его сохранения. Чтобы замедлить "умственное движение" в российском обществе, император прежде всего ограничивает возможность выезда россиян в "чужие края". В апреле 1834 года установлен срок пребывания за границей российских подданных: для дворян - пять лет, а для прочих сословий - три года. Через несколько лет значительно повышена пошлина при оформлении заграничных паспортов. Затем в 1844 году вводится возрастной ценз - отныне лица моложе 25 лет не могут выехать за рубеж. Последнюю меру государь вынашивал долго. Еще осенью 1840 года у него состоялся примечательный разговор с бароном М. А. Корфом, только что вернувшимся из заграничной поездки:
- Много ли ты встречал в чужих краях нашей молодежи?
- Чрезвычайно мало, государь, почти никого.
- Все еще слишком много. И чему им там учиться?
Мотив недовольства тем, что "еще слишком много", страшен своей откровенностью - отлучить нацию от общеевропейской культуры. "Чему им там учиться? - деланно вопрошал царь. - Наше несовершенство во многом лучше их совершенства". Но это всего лишь прикрытие. На самом деле Николай I боялся повторного внесения в страну того "революционного духа", который внушил "злодеям и безумцам", заразившимся "в чужих краях новыми теориями", мечту о революции в России. Вновь и вновь перед Николаем встает тень событий 14 декабря 1825 года. Именно поэтому каждый раз, "когда шло дело о заграничных отпусках", близкие к императору лица отмечают у него "проявление дурного расположения духа".
И снова в Петербург приходит весть о революционных событиях 1848 года в Европе. Информация настолько оглушила государя, что он яростно напустился на камердинера императрицы Ф. Б. Гримма за то, что он смел читать ей в тот момент "Фауста" Гёте: "Гёте! Эта ваша гнусная философия, ваш гнусный Гёте, ни во что не верующий - вот причина несчастий Германии! ... Это ваши отечественные головы - Шиллер, Гёте и подобные подлецы, которые подготовили теперешнюю кутерьму".
Гнев императора понятен, он опасается подобной "кутерьмы" в России. И напрасно. Подавляющая часть населения Российской империи отнеслась к событиям в Европе с абсолютным равнодушием. И все же в апреле 1848 года царь дает указание учредить "безгласный надзор за действиями нашей цензуры" - основного барьера на пути проникновения в страну революционной крамолы. Поначалу двойной надзор - до печати и после - учреждают над одной периодикой, но затем его распространяют на все книгоиздание. Вот строки из царского напутствия специально созданному секретному комитету под председательством Д. П. Бутурлина: "Как самому мне некогда читать все произведения нашей литературы, то вы станете делать это за меня и доносить мне о ваших замечаниях, а потом мое уже дело будет расправляться с виновными".
Цензор А. В. Никитенко, отличавшийся долей либерализма, записывает в то время в своем "Дневнике": "Варварство торжествует дикую победу над умом человеческим". Для России наступает семилетний период мрачной реакции.
Цензурой дело не ограничивается. С мая 1849 года для всех российских университетов установлен "комплект студентов" - не более 300 человек в каждом. Результат впечатляет: в 1853 году на 50 миллионов населения страны студентов всего лишь 2900 человек, то есть почти столько же, сколько в одном Лейпцигском университете. Принятый еще раньше (в 1835 году) новый университетский устав ввел в университетах "порядок военной службы... чиноначалие" и резко ограничил автономию университетов.
Когда в мае 1850 года министром народного просвещения был назначен князь П. А. Ширинский-Шихматов, слывший за "человека ограниченного, святошу, обскуранта", это вызвало неудовольствие даже среди "людей самых благонамеренных". Острословы тут же переиначили фамилию нового министра на Шахматова и говорили, что с его назначением министерству и просвещению в целом "дан не только шах, но и мат". Что толкнуло царя к выбору столь одиозной в глазах общества личности? То была записка, поданная Шихматовым на высочайшее имя, о необходимости преобразования преподавания в университетах таким образом, чтобы "впредь все положения и выводы науки были основываемы не на умствованиях, а на религиозных истинах, в связи с богословием". И вот уже в университетах запрещено чтение лекций по философии и государственному праву, а преподавание логики и психологии поручено профессорам богословия...
Во избежание "умственного брожения" в обществе один за другим закрывают журналы прогрессивной ориентации: "Литературную газету" А. А. Дельвига, "Московский телеграф" Н. А. Полевого, "Европеец" П. В. Киреевского, "Телескоп" Н. И. Надеждина (после опубликования "Философического письма" П. Я. Чаадаева). Об открытии же новых изданий не идет и речи. Так, на ходатайство "западника" Т. Н. Грановского о разрешении журнала "Московское обозрение" летом 1844 года Николай I ответил коротко и ясно: "И без нового довольно".
За время своего правления Николай I уничтожает с таким трудом достигнутую его предшественниками на троне веротерпимость, устраивает беспримерные гонения на униат и раскольников. Строилось полицейское государство.
"ВСЕ ДОЛЖНО ИДТИ ПОСТЕПЕННО..."В исторической литературе широко распространено мнение, что в 30-летнее царствование Николая I в центре его внимания оставался крестьянский вопрос. При этом обычно ссылаются на девять созданных по воле самодержца секретных комитетов по крестьянскому делу. Однако никаких позитивных результатов строго засекреченное от общества келейное рассмотрение самого злободневного для страны вопроса заведомо не могло дать и не дало. Поначалу надежды еще связывали с первым секретным комитетом, позже названным Комитетом 6 декабря 1826 года. Его члены - важные государственные мужи: от умеренного либерала М. М. Сперанского до ярого реакционера П. А. Толстого и неуступчивых, твердолобых консерваторов - Д. Н. Блудова, Д. В. Дашкова, И. И. Дибича, А. Н. Голицына, И. В. Васильчикова. Комитет возглавлял во всем готовый угождать царю председатель Государственного совета В. П. Кочубей.
Цель сего синклита была высока: изучить найденное в кабинете покойного Александра I немалое число проектов по изменению внутреннего устройства государства и определить, что "ныне хорошо, чего оставить нельзя и чем заменить". Любопытно, но руководством для членов Комитета по прямому указанию Николая I будто бы должен был служить "Свод показаний членов злоумышленного общества о внутреннем состоянии государства", составленный правителем дел Следственного комитета над декабристами А. Д. Боровковым. Свод отражал главное из критики декабристами существовавшей системы: губительное для России сохранение крепостного права, беззаконие, творящееся в судах и иных присутственных местах, повсеместное воровство, взяточничество, хаос в администрации, законодательстве и прочее, прочее.
В литературе с давних пор живет запущенная В. П. Кочубеем и развитая затем историком Н. К. Шильдером легенда о том, что Свод стал едва ли не повседневным руководством к действию императора. "Государь, - говорил Кочубей Боровкову, - часто просматривает ваш любопытный свод и черпает из него много дельного; да и я часто к нему прибегаю". Итог деятельности Комитета 1826 года известен: он тихо "умер" в 1832 году, не проведя в жизнь ни одного проекта. На деле же комитет прекратил свою деятельность еще в конце 1830 года - тогда, на фоне тревожных событий в Польше, "вдруг" выяснилось, что России и ее новому императору реформы не нужны вовсе.
Кстати, всерьез решать крестьянский вопрос не жаждал и его либеральный на первых порах старший брат. "Александр, - замечает А. И. Герцен, - обдумывал двадцать пять лет план освобождения, Николай приготовлялся семнадцать лет, и что же выдумали они в полстолетия - нелепый указ 2 апреля 1842 года об обязанных крестьянах". "Нелепый" прежде всего потому, что указ, устраняя "вредное начало" александровского закона 1803 года о свободных хлебопашцах, гласил: "Вся без исключения земля принадлежит помещику; это вещь святая, и никто к ней прикасаться не может". Какие уж тут реформы! Но он "нелепый" и по другой причине: проведение его в жизнь отдано на волю тех помещиков, которые сами того пожелают... В царствование Николая I появился и еще один мертворожденный указ (от 8 ноября 1847 года), по которому крестьяне продаваемых с торгов имений теоретически могли их выкупить и стать, таким образом, свободными, но по чрезвычайной бедности своей сделать этого реально не могли.
Поэтому говорить можно лишь о косвенном влиянии подобных мер на подготовку общественного мнения к решению крестьянского вопроса. Сам Николай I руководствовался в этом деле постулатом, четко сформулированным им 30 марта 1842 года на общем собрании Государственного совета: "Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его положении у нас, есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь было бы делом еще более гибельным". Он выступал лишь за то, чтобы "приготовить пути для постепенного перехода к другому порядку вещей... все должно идти постепенно и не может и не должно быть сделано разом или вдруг".
Мотив, как видим, старый, берущий начало от его бабки, тоже ограничившейся осуждением "всеобщего рабства" и тоже ратовавшей за постепенность. Но Екатерина II имела все основания бояться своего сановного окружения, чтобы приступить к реальным шагам для ликвидации рабства. Всерьез объяснять позицию Николая I в пору его наивысшего могущества все тем же "бессилием перед крепостническими убеждениями высших сановников" (будто при Александре II было по-другому) едва ли правомерно.
Так в чем же тогда дело? Царю Николаю не достало политической воли и обыкновенной решимости? И это в то время, как А. Х. Бенкендорф не уставал предупреждать своего патрона, что "крепостное право - пороховой погреб под государством"? Тем не менее государь продолжал твердить свое: "Дать личную свободу народу, который привык к долголетнему рабству, опасно". Принимая депутатов петербургского дворянства в марте 1848 года, он заявил: "Некоторые лица приписывали мне по сему предмету самые нелепые и безрассудные мысли и намерения. Я их отвергаю с негодованием... вся без исключения земля принадлежит дворянину-помещику. Это вещь святая, и никто к ней прикасаться не может". Николай Павлович, отмечает великая княжна Ольга Николаевна в своих воспоминаниях, "несмотря на все свое могущество и бесстрашие, боялся тех сдвигов", которые могли произойти в результате освобождения крестьян. Как считают многие историки, Николай приходил в бешенство при одной мысли, "как бы общественность не восприняла отмену рабства как уступку бунтовщикам", с которыми он расправился в начале своего царствования.
ЗАКОНЫ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГОНо вот сфера деятельности, которая, пожалуй, удалась Николаю. На дворе третье десятилетие XIX века, а в России все еще действует свод законов, принятый при царе Алексее Михайловиче, - Соборное Уложение 1649 года. Главную причину неудач предыдущих попыток создать нормативное гражданское и уголовное законодательство Николай I верно усмотрел (скорее всего, с голоса М. М. Сперанского) в том, что "всегда обращались к сочинению новых законов, тогда как надо было сперва основать старые на новых началах". Поэтому, пишет Николай, "я велел собрать сперва вполне и привести в порядок те, которые уже существуют, а самое дело по его важности взял в непосредственное мое руководство".
Правда, и здесь самодержец идет не до конца. Из трех неразрывно связанных этапов кодификации законов, намеченных М. М. Сперанским, фактически возглавлявшим работу, Николай I оставил два: выявить все изданные до 1825 года после Уложения 1649 года законы, расположив их в хронологическом порядке, а затем на этой основе издать "Свод действующих законов" без внесения каких-либо значимых "исправлений и дополнений". (Сперанский предлагал провести подлинную кодификацию законодательства - создать новое, развивающее право Уложение, отсеяв все не отвечающие духу времени устарелые нормы, заменив их другими.)
Составление Полного собрания законов (ПСЗ) было завершено к маю 1828 года, а печатание всех 45 томов (с приложениями и указателями - 48 книг) закончено в апреле 1830 года. Грандиозный труд, по праву названный Николаем I "монументальным", включил в себя 31 тысячу законодательных актов. Тираж ПСЗ составил 6 тысяч экземпляров.
А к 1832 году был подготовлен "Свод законов" из 15 томов, который и стал действующим юридически-правовым нормативом Российской империи. При его составлении из него исключили все недействующие нормы, сняли противоречия и провели довольно большую редакционную работу. Так в первой половине XIX века сложилась система российского права (в основной своей части она функционировала вплоть до крушения империи в 1917 году). Работу над Сводом постоянно контролировал Николай I, а необходимые смысловые дополнения законов производились только с высочайшей санкции.
Свод разослали во все государственные учреждения и с 1 января 1835 года руководствовались только им. Казалось, что теперь в стране восторжествует законность. Но только казалось. Посетивший Россию в 1839 году в составе свиты принца А. Оранского полковник Фридрих Гагерн пишет о почти поголовной "продажности правосудия", о том, что "без денег и влияния не найдете для себя справедливости". Один из мемуаристов той поры описал типичный случай из жизни 40-х годов. Могилевскому губернатору Гамалею сказали, что приказание его не может быть исполнено, и сослались на соответствующую статью закона, тогда он сел на том "Свода законов" и, ткнув пальцем себя в грудь, грозно рыкнул: "Вот вам закон!"
Еще одно важнейшее в жизни страны событие - строительство и открытие в 1851 году железной дороги Петербург - Москва. И в этом следует отдать должное воле императора. Он решительно пресек явное и скрытое противодействие многих влиятельных лиц, среди них - министров Е. Ф. Канкрина и П. Д. Киселева. Николай I верно оценил значение дороги для экономического развития страны и всемерно поддерживал ее прокладку. (Правда, как свидетельствуют осведомленные современники, на затраченные при строительстве средства можно было бы довести дорогу до самого Черного моря.)
Россия нуждалась в дальнейшем быстром развитии сети железных дорог, однако дело наталкивалось на упорное нежелание Николая I привлечь к этому частный капитал - акционерный. Все отрасли экономики, считал он, должны быть в руках государства. И все же осенью 1851 года последовало царское повеление приступить к строительству железной дороги, связывающей Петербург с Варшавой. На этот раз государь исходил из соображений безопасности. "В случае внезапной войны, - говорил он, - при теперешней общей сети железных дорог в Европе Варшава, а оттуда и весь наш Запад могут быть наводнены неприятельскими войсками прежде, чем наши успеют дойти от Петербурга до Луги". (Как же сильно ошибся царь в определении места вторжения неприятельских войск!)
Что касается состояния экономики России в целом и отдельных ее отраслей, то они развивались по своим законам и достигли определенных успехов. Император, не обладавший достаточными экономическими знаниями и опытом, особо не вмешивался в хозяйственное управление государством. По свидетельству П. Д. Киселева, при обсуждении того или иного конкретного вопроса Николай I честно признавался: "Я этого не знаю, да и откуда мне знать с моим убогим образованием? В 18 лет я поступил на службу и с тех пор - прощай, ученье! Я страстно люблю военную службу и предан ей душой и телом. С тех пор как я нахожусь на нынешнем посту... я очень мало читаю... Если я и знаю что-то, то обязан этим беседам с умными и знающими людьми". Он убежден, что именно такие беседы, а не чтение книг "самое лучшее и необходимое просвещение", - тезис по меньшей мере спорный.
А насколько государь был "сведущ" в вопросах экономики, показывает тот факт, что, подходя, например, к финансовым вопросам, он полагал достаточным руководствоваться сугубо обывательским представлением: "Я не финансист, но здравый рассудок говорит мне, что лучшая финансовая система есть бережливость, этой системе я и буду следовать". К чему это привело, известно: после смерти Николая I на государстве висели огромные долги. Если Е. Ф. Канкрину, принявшему министерство в 1823 году, удавалось при тяжелейших внутренних и внешних условиях сохранять сбалансированный бюджет вплоть до своего ухода с должности по болезни - в 1844 году, - то при заместившем его бездарном Ф. П. Вронченко (по сути, бывшем лишь секретарем при императоре) уже в следующем году дефицит составил 14,5 миллиона рублей, а спустя пять лет - 83 миллиона. В ответ на беспокойство председателя Государственного совета и Комитета министров И. В. Васильчикова Николай I искренне недоумевал: "Откуда князя преследует вечная мысль о затруднительном положении наших финансов", говоря, что судить об этом - дело "не его, а императора". Примечательно - министру просвещения С. С. Уварову и министру юстиции В. Н. Панину он запомнился в роли "главного финансиста" тем, что "постоянно урезал бюджеты их министерств до минимума".
ЖРЕЦ САМОДЕРЖАВИЯНиколай I твердо убежден: государство всесильно! Именно оно способно и должно выражать интересы общества - необходим лишь мощный централизованный аппарат управления. Отсюда то исключительное положение в системе органов государственной власти, которое занимала личная канцелярия монарха с пятью ее отделениями. Они, отмечают историки, "подмяли под себя и подменили собой всю исполнительную структуру власти в стране". Суть отношений общества и самодержца наилучшим образом определяет резолюция Николая I на одной из записок А. С. Меншикова: "Сомневаюсь, чтобы кто-либо из моих подданных осмелился действовать не в указанном мною направлении, коль скоро ему предписана моя точная воля". Слова эти точно выражают общую тенденцию к военизации государственного аппарата, начиная с самого верха, с Комитета министров.
В начале 40-х годов из тринадцати министров только трое имели гражданские чины, да и их Николай I терпел лишь потому, что не нашел им равноценной замены среди военных. В конце его царствования из 53 губерний 41 возглавляли военные. Императору по душе люди привычные к жесткой субординации, люди, для которых страшнее всего даже ненароком нарушить армейскую дисциплину. "По воцарении Николая, - писал С. М. Соловьев, - военный человек, как палка, как привыкший не рассуждать, но исполнять и способный приучить других к исполнению без рассуждений, считался лучшим, самым способным начальником везде; опытность в делах - на это не обращалось никакого внимания. Фрунтовики воссели на всех правительственных местах, и с ними воцарилось невежество, произвол, грабительство, всевозможные беспорядки".
Всеобщей милитаризации отвечало и расширение военного образования: при Николае открыто одиннадцать новых учебных заведений для детей дворян - кадетских корпусов, основаны три военные академии. И все из убеждения, что образцом идеально устроенного общества является дисциплинированная армия. "Здесь порядок, строгая безусловная законность, никакого всезнайства и противоречия, все вытекает одно из другого, - восторгался Николай I. - Я смотрю на человеческую жизнь только как на службу, так как каждый служит" (важно отметить, что под "всезнайством" разумелась самостоятельность мысли или деятельности).
Отсюда беспримерное увлечение властителя огромной империи определением покроя и цвета мундиров, форм и красочности киверов и касок, эполет, аксельбантов... Во время едва ли не ежедневных докладов П. А. Клейнмихеля (в 1837-1855 годах - председателя Особого комитета по составлению описания формы одежды и вооружения) они часами с наслаждением обсуждали все сии премудрости. Подобным забавам (иначе их и назвать нельзя) несть числа. Так, например, сам самодержец выбирал масти лошадей для кавалерийских частей (в каждой из них лошади обязательно только одной масти). Для достижения "однообразия и красоты фронта" Николай I лично распределял новобранцев по полкам: в Преображенский - с "лицами солидными, чисто русского типа", в Семеновский - "красивых", в Измайловский - "смуглых", в Павловский - "курносых", что подходило к "павловской шапке", в Литовский - "рябых" и т. д.
Погруженный в такие несуразные мелочи император и в своих министрах видел не государственных деятелей, а слуг в роли портных, маляров (с военным министром А. И. Чернышевым царь решает, в какой цвет красить солдатские койки), курьеров или, в лучшем случае, секретарей. По-другому и быть не могло, ибо в сознании "всероссийского корпусного командира" сложилось стойкое представление: разумная идея может исходить только от него, а все прочие лишь повинуются его воле. Он не мог понять, что движение подлинной жизни должно идти не сверху вниз, а снизу вверх. Отсюда его стремление все регламентировать, предписать для немедленного исполнения. Это, в свою очередь, определило его страсть окружать себя послушными и безынициативными исполнителями. Вот лишь один из многочисленных примеров, отлично подтверждающих сказанное. При посещении военного училища ему был представлен воспитанник с выдающимися задатками, способный на основе анализа разнородных фактов предвидеть развитие событий. По нормальной логике император должен быть рад иметь такого слугу отечества. Но нет: "Мне таких не нужно, без него есть кому думать и заниматься этим, мне нужны вот какие!" И указывает на "дюжего малого, огромный кус мяса, без всякой жизни и мысли на лице и последнего по успехам".
Дипломатический представитель Баварского королевства в России Оттон де-Брэ, внимательно наблюдавший за жизнью двора, отмечает, что все государственные сановники лишь "исполнители" воли Николая I, от них он "охотно принимал советы тогда, когда он их спрашивал". "Быть приближенным к такому монарху, - заключает мемуарист, - равносильно необходимости отказаться, до известной степени, от своей собственной личности, от своего я... Сообразно с этим в высших сановниках... можно наблюдать только различные степени проявления покорности и услужливости".
"В России нет больших людей, потому что нет независимых характеров", - горько замечал и маркиз де Кюстин. Подобное раболепие полностью отвечало царскому убеждению: "Там, где более не повелевают, а позволяют рассуждать вместо повиновения, - там дисциплины более не существует". Подобный взгляд вытекал из карамзинского тезиса: министры, поскольку они нужны, "долженствуют быть единственно секретарями государя по разным делам". Здесь особенно рельефно проявлялась осуждаемая еще Александром I (в его бытность либералом) сторона самодержавия: царские повеления следуют "более по случаям, нежели по общим государственным соображениям" и, как правило, не имеют "ни связи между собой, ни единства в намерениях, ни постоянства в действиях".
Более того, управление по личной воле Николай I считал прямым долгом самодержца. И не имело значения, были то дела, составляющие государственную важность или относящиеся к частному лицу. В любом случае решения по ним зависели от личного усмотрения и настроения государя, который иногда мог руководствоваться буквой закона, но чаще все же своим личным мнением: "Лучшая теория права есть добрая нравственность". Однако на публике монарх любил декларировать свою приверженность законам. Когда, к примеру, при личном обращении к государю просители говорили, что "довольно одного вашего слова, и это дело решится в мою пользу", Николай обычно отвечал: "Это правда, что одно мое слово может все сделать. Но есть такие дела, которых я не хочу решать по своему произволу".
На деле же право на решение любого дела он оставлял за собой, вникая в мельчайшие подробности повседневного управления. И отнюдь не шутил, когда единственно честными людьми в России признавал только себя и наследника престола: "Мне кажется, что во всей России только ты да я не воруем".
(Окончание следует.)