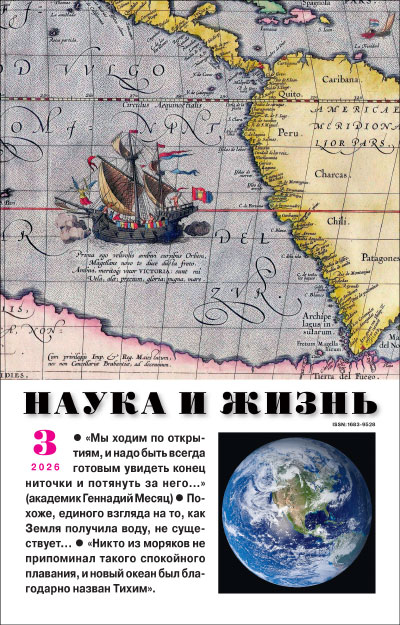Автор этих воспоминаний - Евгения Павловна Зенкевич - кандидат искусствоведения, театровед, вдова врача и сценариста многих научно-популярных фильмов В. Э. Мандельштама - родного брата поэта О. Э. Мандельштама. Написанная и изданная ею за свой счет книга воспоминаний "Когда я была девчонкой" относится не только к ее собственной жизни и жизни ее семьи. Благодаря профессии своих родителей Е. П. Зенкевич еще в детстве соприкоснулась с целым кругом известных в нашей стране людей, и книга ее содержит массу интересных сведений о многих из них. Но совершенно особый интерес вызывает та часть воспоминаний Евгении Павловны, которая относится к ее четырехлетнему пребыванию в детском костнотуберкулезном санатории в Сокольниках. Около 80 лет она помнит любовь и самоотверженный труд врачей, медсестер и нянечек, которые умудрялись в голодной и холодной Москве времен гражданской войны ставить на ноги, казалось бы, неизлечимо больных детишек. Сегодня Евгении Павловне Зенкевич 82 года, и она продолжает писать свои воспоминания - уже вторую книгу.
В СЕМЬЮ ПРИШЛА БЕДА
Я родилась в 1919 году в Херсоне, где мой отец работал антрепренером и режиссером драматического театра, а мать - одной из ведущих актрис труппы. Ребенком я была здоровым и на редкость тихим и с первых же месяцев спокойно путешествовала с матерью на репетиции и спектакли в лубяной коробке от платьев.
Идиллия эта, однако, скоро кончилась. Слишком тревожное было время - самый разгар гражданской войны на Украине. Власти постоянно менялись, Херсон переходил из рук в руки, и, забрав меня, мать ушла за 18 километров в деревню. Там жилось спокойно, но долго выдержать мать не смогла: велик был страх за отца. Бросив деревню, она вернулась в город.
На летний сезон театр выезжал в небольшое местечко Алешки, располагавшееся напротив Херсона на другой стороне Днепра. Там, однако, оказалось еще хуже: те же обстрелы, та же смена властей, да к тому же и укрыться негде. Приходилось прятаться в погребах или в тюрьме - единственном каменном здании. В результате я простудилась, а может быть, просто подхватила инфекцию и начала температурить, худеть, и вскоре врачи обнаружили у меня в легких туберкулезные очажки.
Родители перепугались. Туберкулез вообще требует долгого и систематического лечения, что в условиях военного времени, голода и разрухи было делом чрезвычайно трудным. А за меня страх был особенно велик - из-за наследственного предрасположения к туберкулезу как со стороны матери, так и со стороны отца. И родители решили при первой возможности перебраться в Москву - поближе к хорошим врачам.
Путешествие оказалось долгим и трудным: от Херсона до Москвы добирались 22 дня. А после приезда - почти сразу - в семью пришла та беда, которой так опасались родители: мать стала замечать у меня признаки начинающегося костного туберкулеза. Их она хорошо знала еще с юности, поскольку этим недугом страдала ее младшая сестра, за которой она ухаживала.
Мама пришла в ужас и бросилась к врачам, но они с ее подозрениями не соглашались. Не отрицая, что ребенок слабенький и действительно переболел туберкулезом легких и голеностопного сустава, они утверждали, что позвоночник у меня в порядке. На рентген меня никто даже не попытался отправить, впрочем, и сделать это тогда было много труднее, чем теперь. Но мать не сдавалась и твердила: "Женька больна. У нее поврежден позвоночник. Ее нужно лечить".
Наконец нашелся рентгенолог, который согласился сделать мне снимок без направления, но, увидав меня, спросил: "Что же мне снимать? Весь позвоночник?" "Нет!" - твердо ответила мать и уверенно показала на поясничные позвонки. Именно они, как потом показал снимок, и оказались разрушенными.
Этот момент стал поворотным не только в моей судьбе, но и в судьбе родителей. Лечение больного ребенка в голодной Москве 1922 года требовало больших денег и главное - постоянных забот. Привычная кочевая жизнь провинциальных актеров с обязательными переездами из города в город отныне исключалась. От работы в театре приходилось отказаться. И родители отказались.
Представляю себе, чего это им стоило, особенно матери, для которой театр с гимназических времен был единственным светом в окошке, единственной страстью.
Отцу было легче: он обладал счастливой способностью увлекаться любым делом, отдаваться ему полностью. В нем одновременно уживались и музыкант, и филолог-полиглот, и театральный деятель. Уйдя из театра, отец сравнительно легко нашел для себя работу, позволившую ему все-таки сохранить с театром связь, - стал переводчиком пьес.
Но и расставшись с любимой работой, родители не могли сами - в домашних условиях - вылечить меня. И, узнав точный диагноз болезни, стали искать стационар - больницу или санаторий, где бы за мое лечение взялись серьезно. Поиски вскоре увенчались успехом, и меня поместили в детский костнотуберкулезный санаторий, располагавшийся на 5-м Лучевом просеке Сокольников. В этом доме мне довелось провести долгих четыре года.
САНАТОРИЙ В СОКОЛЬНИКАХК годам, проведенным в санатории, относятся мои самые первые детские воспоминания. Ведь привезли меня туда в возрасте двух лет и десяти месяцев. Среди пациентов я оказалась младшей, и поначалу даже обсуждался вопрос, можно ли меня вообще брать: не потребует ли такая кроха специального ухода.
Но все обошлось благополучно. Оказалось, что такие малыши, тем более окруженные вниманием и заботой, легко привыкают к новой обстановке и даже забывают семью. Большим детям, попавшим в санаторий в 10-12 лет и старше, было куда труднее примириться с собственной неподвижностью, забыть дом, не думать о возможных последствиях тяжелой болезни. Для меня же этого просто не существовало.
Все было ясно: дети должны лежать (окружавшие меня дети лежали), а взрослые ходить. Нужно выполнять, что говорят, и тогда вырастешь, станешь взрослой и будешь ходить. Все придет само собой! Беспокоиться не о чем! И я старалась вовсю. Покорно выносила даже такие мучительные процедуры, как медицинскую обработку раны на ноге, не говоря о пустяках вроде анализа крови или очередной порции касторки, которую все мы получали ежемесячно. Правда, в поощрение за каждую процедуру, в утешение нам дарилась какая-нибудь красивая коробочка из-под папирос, духов или конфет. Ее красота и величина соответствовали сложности и болезненности процедуры.
Коробочки сами по себе нас интересовали мало. Они моментально ломались и выбрасывались, но лишь после того, как были продемонстрированы всем в палате. И когда нас везли в перевязочную, лабораторию или рентгеновский кабинет, мы думали не о процедуре, а только о том, что привезем в палату в качестве знака нашей храбрости.
Из лечебных неприятностей детства мне почему-то больше всего запомнился сладкий американский рыбий жир, которым нас вынуждены были некоторое время угощать в санатории. Наш - обычный - это было еще полбеды: его можно было, зажав нос, быстро проглотить и, заев черным хлебом с солью, забыть. Но когда санаторий получил партию американского, сладкого и густого рыбьего жира, это стало совершенно невыносимо: избавиться от его вкуса и запаха было нельзя ничем, заесть было невозможно. Представляю себе, как намучились тогда с нами сестры: заставить больного ребенка есть - дело вообще нелегкое, а тут еще такое несъедобное лекарство!
Кормили нас упорно и старательно. Весь персонал тщательно следил, чтобы каждый ребенок неукоснительно съедал свою порцию, чтобы тарелка была чиста, чтобы еда невзначай (а так бывало) не оказалась под кроватью соседа. Наряду с полным покоем еда была одним из основных лечебных средств при консервативном методе лечения. И руководство санатория делало все, чтобы обеспечить детям максимально хорошее питание.
Это было непросто. Шел 1922 год. Со снабжением санатория дела были плохи. Мать ежедневно путешествовала от Страстной площади до моего 5-го Лучевого просека, чтобы привезти мне молока, масла или яиц, словом, то, что удавалось достать. Путешествие длилось долго: до круга - городским транспортом, а там - пешком через Сокольнический лес.
Понятно, что позволить себе подобное индивидуальное снабжение могли далеко не все. И наш врач - Зинаида Ульяновна, в основном взявшая на себя трудную и неблагодарную миссию общения с родителями, неутомимо уговаривала, напоминала, настаивала: "Помните: у нас есть дети, которым никто ничего не приносит. Несите все, что в ваших силах". И родители несли, а принесенное складывалось в общий котел и делилось между всеми поровну. Никто обижен не был.
КАК О НАС ЗАБОТИЛИСЬСерьезной помощью для администрации санатория стал родительский комитет, помогавший добывать для ребят питание и нестандартное оборудование, организовывать в санатории культурную жизнь. На праздники для нас устраивались концерты: приезжали чтецы, музыканты, певцы и певицы. Нa Рождество во внутреннем холле устанавливали огромную елку, и в ее украшении участвовали не только родители, но и сами ребята. Подготовку начинали заранее: во всех палатах что-то клеили, лепили, раскрашивали. Устраивались и ребячьи концерты, в которых принимали участие, главным образом, старшие дети.
Из инвентаря, который помогли достать родители, самыми полезными оказались специальные столики и кровати. Столики - деревянные, небольшие, приспособленные так, чтобы их можно было поставить на кровать. На крышку столика ребенок мог положить игрушку или еду. Крышка поднималась, превращаясь в своего рода пюпитр, на который удобно положить книгу или тетрадь. Именно такой столик был моей первой партой, за которой я вывела свои первые каракули, решила первые примеры, прочла первые строчки.
Еще одним серьезным усовершенствованием нашего санаторного житья-бытья была новая кровать, сконструированная отцом одного из лежавших в санатории мальчиков. Появление таких кроватей стало для персонала настоящим праздником: они стояли на великолепных больших медных колесах, что позволяло передвигать их буквально прикосновением мизинца, и, кроме того, были высокими - сестрам не приходилось нагибаться к больным детям.
Важность и серьезность этих новшеств легко представить, если учесть полную неподвижность детей. Я пролежала всего четыре года - самый короткий срок для детей с поврежденным позвоночником. Другие лежали по шесть, семь и даже восемь лет. Между тем многолетняя полная неподвижность делает ребенка во много раз тяжелее здорового, а задачу перенести его с места на место просто мучительной. Здоровый ребенок, который обнимает вас ручками за шею, как бы сам отрывается от земли, сам поднимает свое тельце. Это совершенно другое, чем живые камушки, лежащие годами, не двигаясь с места.
Чтобы понять, что такое ребенок, больной костным туберкулезом, надо представить себе, как он лежит. Под ним тонкий ватный матрасик, покрывающий голые доски, под головой - плоская подушка, едва поднимающая голову над уровнем матраса. Лежит ребенок крепко-накрепко привязанным к постели. Торс его - в гипсовом корыте, не позволяющем повернуться набок, ноги тоже привязаны. На плечах - матерчатые кольца, в них под плечи ребенка подсунута прикрепленная к кровати линейка.
Со временем, если дела идут хорошо, ребенку освобождают ноги, и постепенно он начинает орудовать ими не хуже, чем руками. Я, например, вернувшись из санатория, могла ногами причесываться и развязывать узлы.
Это описание может вызвать у постороннего человека страх и даже содрогание. "Несчастные дети!" - подумает он, но мы, дети этого санатория, вовсе не чувствовали себя несчастными. Я долгое время, даже оказавшись дома, не могла понять, за что меня жалеют, почему добрые знакомые вздыхают, провожая меня жалостливыми взглядами, и шепчутся. Ведь годы, проведенные в санатории, были добрыми и радостными. Он стал для меня не только родным домом, он сохранил тяжело больной девочке радость детства, а это очень много. Добиться, чтобы привязанные к кровати дети не чувствовали себя несчастными в условиях строжайшего режима, чтобы психика их осталась здоровой, - это действительно настоящий подвиг. Всю тяжесть его я давно оценила по заслугам. А в то время санаторий и вовсе был для меня гораздо дороже, чем родительский дом.
Я не была исключением. Все мы нежно любили санаторий, наших товарищей, тех, кто о нас заботился, - сестер, нянек, врачей, любили наши игры, совместное чтение книг, учебу... Выписку домой встречали настороженно, а часто и как горестное событие, не обходившееся без слез. Помню очень характерный случай. Выписывали двенадцатилетнего Антона, много лет пролежавшего в санатории. Домой его везли мимо террасы, на которой мы, его товарищи, лежали, принимая солнечную ванну. Моя кровать стояла у самой балюстрады, и с моего места было отчетливо видно, как с искаженным лицом Антон отбивался от родителей, было слышно, как он кричал, захлебываясь слезами: "Не хочу домой! Не хочу уезжать!"
Его "санаторная мама", наша сестра-хозяйка, стояла на крыльце, кричала ему вслед какие-то успокоительные слова, а по ее лицу двумя блестящими дорожками бежали слезы. Она, по-видимому, крепко привязалась к патронируемому мальчику, и расставание с ним ей далось нелегко.
САНАТОРНЫЕ МАМЫ"Санаторная мама" была у каждого из нас - тот человек, который фактически брал на себя шефство над данным ребенком. В общем уходе за детьми, в его неизбежной и даже обязательной обезличенности, легко возникало чувство одиночества и потерянности. Ему и противостояла система патроната, особенно важная для малышей и ребят из других городов, к которым родители приезжали лишь изредка.
Но и встречи ребят-москвичей с родителями были не чаще раза в месяц, и всего на два часа. В результате между детьми и родителями возникало отчуждение, усиливавшееся с каждым годом, проведенным в санатории. В таких условиях местная заместительница мамы была действительно необходима.
К патронату в санатории относились очень внимательно и осторожно. К ребенку долго присматривались, старались все организовать так, чтобы связь между ребенком и взрослым - будущим патроном возникала постепенно, сама собой, на основе взаимной симпатии. Если по каким-то причинам этого не случалось, заменяли кандидата в патроны.
У меня такой личной "санаторной мамой" была сначала сестра Кузьминична, которая приходила укладывать меня спать. Привязанность к ней я сохранила надолго: мы с ней встречались и позднее, когда я уже училась в школе. Но в стенах санатория наша связь с моей первой "санаторной мамой" постепенно ослабела. Как самая маленькая, я долго была общим баловнем и жила припеваючи, одинаково радуясь каждому знаку внимания, от кого бы он ни исходил.
Совершенно особые отношения сложились у меня с одной из нянь - моей тезкой - няней Женей.
Чтобы побыть со мной и поговорить по душам, она либо приходила за час до своего дежурства, либо задерживалась после работы. Рано утром - до начала процедур и прихода врачей - или вечером после ужина усаживалась возле меня и начинала расспрашивать о моем житье-бытье. Я же обычно отвечала кратко и нетерпеливо, торопя поскорее перейти ко второй части наших бесед - к ее рассказам о сотворении мира и о Христе. Я не задумывалась над тем, сказка это или быль, но общее настроение рассказчицы, ее вера захватывали и меня, а подробности описания, многократно повторенные, придавали реальность даже самым фантастическим эпизодам.
Содержание наших бесед с няней Женей как-то прошло мимо администрации санатория и моих родителей. Не помню, чтобы когда-нибудь она просила меня не говорить никому о своих рассказах, но я угадывала невысказанное желание няни Жени, и они оставались нашей общей тайной, которая нас еще больше сближала.
Жизнь в санатории шла строго по расписанию: занятия сменялись послеобеденным сном, потом наступало время игр. Мы лепили из пластилина, рисовали, делали аппликации из цветной бумаги, плели корзиночки. Очень любили, когда кто-нибудь из педагогов или сестер читал нам вслух. При этом особым успехом у нас пользовались книжки Чарской "Княжна Джаваха", "Сибирочка" и красные томики золотой библиотеки: "Маленькие женщины", "Маленькие женщины, ставшие взрослыми", "Голубая цапля" и т. п.
Со многими детьми приходилось серьезно заниматься, так как им было уже по 14-15 лет, и было важно, чтобы они не отстали от сверстников. Мое лечение закончилось, когда мне еще не исполнилось и семи лет, то есть в то время, когда ребята только готовились пойти в первый класс школы. И все-таки учебу свою я начала еще в санатории, а к моменту возвращения домой уже умела читать и писать.
ДЕТИ ЕСТЬ ДЕТИНесмотря на строгий надзор, на то, что мы - в самом буквальном смысле этого слова - были связаны по рукам и ногам, шалили мы в санатории отчаянно и постоянно. Особенно в субботу, которая, по нашему твердому убеждению, предназначалась именно для шалостей. Ведь все дни недели мы занимались, нас усиленно лечили, осматривали, делали нам самые разные лечебные процедуры. Сестры, учителя, врачи, няньки непрерывно входили в палату, и каждый нарушитель спокойствия моментально призывался к порядку. Другое дело - суббота. Ни занятий, ни осмотров, ни процедур в этот день не было, учителя и врачи в палату не заходили. Дежурные сестры и няни занимались нашим купанием.
Дело это сложное, оно поглощало все их внимание. Каждого надо было отвязать от кровати, перевезти в ванную комнату, переложить на стоявший в ванне деревянный топчан, намылить с одной стороны, облить, чтобы смыть мыло, повернуть и повторить еще раз всю процедуру с другой стороны. Причем сам ребенок чаще всего не мог без посторонней помощи повернуться с одной стороны на другую. Потом нужно было, вытерев ребенка досуха, доставить его на место и закрепить на нем всю амуницию. Естественно, что ни у сестер, ни у нянь не хватало ни времени, ни сил следить за нами. Более того: они разрешали нам самим готовиться к мытью и развязывать кольца. Сестры появлялись в палате лишь на минутку, привозя одного и забирая другого. Словом, этот день был днем нашей свободы.
Оставшись в палате одни, мы с радостью развязывали надоевшие нам кольца, вытаскивали из-под спины линейки, которые моментально превращались в рапиры или шпаги. При помощи определенных движений рук и ног мы умели заставить наши кровати перемещаться по палате, и тогда начинались бои. Сражения развертывались иногда просто грандиозные. Бывали и победители и побежденные, не обходилось без шишек и синяков.
Иногда дело кончалось общим нагоняем и наказанием. Обычно предвестником приближающейся бури был четкий звук постукивающих каблуков, извещавший о приближении Зинаиды Ульяновны. Заслышав его, мы прекращали сражение и замирали от страха. Взаимные счеты откладывались до более удобного случая, и мы судорожно пытались разъехаться по местам. Удавалось это, однако, немногим: слишком неповоротливы были наши колесницы. Большую часть Зинаида Ульяновна ловила на месте преступления, а других угадывала по возбужденным лицам. К тому же за шумом боя мы далеко не всегда слышали приближение врача, и голос Зинаиды Ульяновны поражал нередко нас, как гром среди ясного неба. Шашки застывали в воздухе, растерянно замирали храбрые бойцы. На горизонте возникала дежурная сестра. И тут все без исключения получали нахлобучку - и ребята, и персонал.
НАШИ ЗИНОЧКИВообще, Зинаиду Ульяновну ребята хотя и любили, но побаивались. Побаивались ее и родители, которым тоже доставалось от нее за каждую попытку нарушить распорядок санатория, увидеть лишний раз ребенка в неположенные часы или передать непосредственно ему запрещенное лакомство. Независимо от обходов, в которых Зинаида Ульяновна всегда принимала участие, она нередко в течение дня появлялась в наших палатах. Быстрая и наблюдательная, она всегда замечала наши неловкие попытки скрыть шалости, наши маленькие хитрости. "Женька, маленькая обезьянка! Ты опять развязала ногами вещевой мешок!" (Мешок этот обычно привязывали у нас в ногах к постели и прятали в него от нас игрушки и книжки, чтобы мы во время "мертвого часа" спали.) "Рахиль, почему кусок ветчины, которую вам давали на завтрак, лежит под кроватью твоей соседки?" "Вова Смирнов, перестань вытирать грязные руки о простыню!" - гремел ее голос, веселый и грозный. Закончив суд и расправу, она тут же находила способ утешить чем-нибудь огорченного малыша, рассмешить ребят и посмеяться вместе с ними.
Профессию свою Зинаида Ульяновна искренне любила. Она была из числа тех русских женщин, которые, стремясь получить высшее медицинское образование, уезжали из России в Швейцарию. Таких женщин тогда в нашей стране было немало. Во всяком случае, в дальнейшем мне довелось встретить четырех женщин-врачей, получивших свой диплом в Швейцарии. Изучая там медицину, Зинаида Ульяновна встретилась с одним из швейцарских врачей - владельцем частного туберкулезного санатория. Они полюбили друг друга. Зинаида Ульяновна стала его женой и осталась работать рентгенологом в его санатории. Но вскоре муж ее заразился туберкулезом и умер, и молодая вдова решила вернуться на родину. В подарок нашему санаторию, где она начала работать рентгенологом, Зинаида Ульяновна привезла из Швейцарии полное оборудование рентгеновского кабинета по последнему слову тогдашней медицинской техники.
А главным врачом нашего санатория был Зиновий Давыдович. "Наши Зиночки" - любовно называли их ребята. Но если Зинаиду Ульяновну переполняла жизнеутверждающая энергия и веселость, то Зиновий Давыдович был медлительным, невозмутимо-спокойным человеком. Дел у него обычно бывало невпроворот, однако он всегда находил время, чтобы поговорить с ребятами по душам. Чаще всего после конца рабочего дня, когда почти весь персонал расходился по домам. Завозившись с неотложными делами, Зиновий Давыдович часто оставался ночевать в санатории.
Входил он в палату тихо, не спеша, подходил к чей-нибудь кровати, садился рядом, и, непонятно как, начинался разговор о самом важном, о самом сокровенном. Каждый после разговора с ним чувствовал себя счастливым, успокоенным даже тогда, когда наши мысли и поступки не вызывали у него одобрения. Просто все становилось на свои места.
На внимание "наших Зиночек" могли рассчитывать дети, не только находящиеся в санатории, но и выписавшиеся домой. Все мы постоянно оставались в их поле зрения, регулярно, два раза в год, привозили нас в санаторий для осмотра.
Помню очень характерный для Зиновия Давыдовича эпизод. Мы с мамой приехали в санаторий на осмотр. После рентгеновского снимка нужно было проверить мой вес, а весы находились на втором этаже, дальнейший же осмотр должен был продолжаться на первом. Чтобы не заставлять меня лишний раз одеваться, Зиновий Давыдович завернул меня в простыню, взял на руки и понес. Я отнеслась к этому с восторгом и удивилась, услышав мамин встревоженный голос: "Зиновий Давыдович, что вы делаете? Ведь Женьке уже 12, и она, что называется, девушка с весом!" "Своя ноша не тянет!" - как всегда, тихо ответил Зиновий Давыдович, и сказанное было действительно правдой, а не так, для красного словца.
Его любовь к детям была настолько самозабвенной, что даже стала помехой его личному счастью: Зиновий Давыдович и Зинаида Ульяновна были близки, много лет любили друг друга, и все же Зинаида Ульяновна не смогла простить ему полной самоотдачи больным детям. Помню случайно услышанную мной фразу, сказанную Зинаидой Ульяновной маме, с которой она дружила: "Нет! Нет, Софья Александровна, не уговаривайте меня. Я, как прежде, люблю Зиновия Давыдовича, но больше так жить не могу. Я готова соперничать с любой женщиной, но справиться с 60-ю детьми я не в силах!" - голос звучал нервно, на глазах были слезы.
Через некоторое время беды и горести, постигшие нашу семью, отдалили нас от Зинаиды Ульяновны, и мы долго не виделись. Увиделись мы только в конце 1937 года, когда неожиданно Зинаида Ульяновна пришла к нам. Я открыла дверь и не сразу узнала ее в том смертельно бледном изваянии, которое предстало передо мной. Отстранив меня, она шагнула через порог и, не раздеваясь, прошла в комнату, где была мать. Она молча остановилась, опираясь о дверной косяк, и, подняв на маму невидящие глаза, деревянным голосом, со смертельным спокойствием сказала: "Взят Зиновий Давыдович. Его обвиняют во вредительстве. По-видимому, расстреляют!"
В начале 1938 года Зиновий Давыдович действительно был расстрелян. Зинаида Ульяновна приняла на себя заботу о его матери, единственном дорогом ему человеке. В 1956 году его, как и тысячи других невинных людей, оправдали.
МЕНЯ ВСЕ-ТАКИ ВЫЛЕЧИЛИСрок моего пребывания в санатории подходил к концу. Ранней весной 1926 года врачи стали чаще задерживаться у моей постели. Они рассматривали рентгеновские снимки, о чем-то спорили. И вот однажды ко мне подошла Зинаида Ульяновна и весело сказала: "Ну, Женька, дождалась - будем поднимать - и домой. Клавдия Дмитриевна, - обратилась она к дежурной сестре, - развяжите Зенкевич: пусть учится барахтаться в постели". И опять ко мне: "Только, Женька, осторожней! Ты привыкла быть привязанной, смотри не свались". Зинаида Ульяновна присоединилась к выходившим из палаты врачам.
Взволнованная палата загудела. Подъем кого-нибудь из нас и тем более выписка были редкими событиями в нашей жизни. За четыре года моего лежания из нашей палаты уехал домой всего один ребенок. Но каждый из нас был уверен, что рано или поздно придет и его черед, и в глубине души всегда ждал этой минуты. Поэтому все хотели мне что-то сказать, поделиться с соседом, обсудить вопрос, как меня будут поднимать, как и когда повезут меня домой, какой у меня дом и что такое дом вообще. В палате стоял страшный шум и гам.
Сама же я лежала совершенно потерянная и потрясенная, не знала, грустить мне или радоваться. Конечно, как ни спокойно переносила я лежание и больничную скованность, и во мне всегда жила невысказанная мечта о свободе от пут, о возможности подняться, начать ходить. Это было хотя и страшно, но ужасно заманчиво. Но дальше мне предстояла выписка из санатория - прямая угроза всему, к чему за эти годы я привыкла и приросла душой. А дом? Дом не вызывал у меня никаких ассоциаций. У меня навернулись слезы. Не понимая причины моих слез, сестра, развязывавшая на мне кольца и лифчик, утешая меня, радостно приговаривала: "Женечка, милая, поздравляю! Скоро ты поедешь к папе с мамой! Вот будет радость!" Тут уж я не выдержала и заревела в голос. Какие мама с папой?! Зачем они мне нужны?! - думала я, мучаясь, - мне нужны наши дорогие Зиночки, Кузьминична, ласковая молоденькая сестричка Наточка, няня Женя с ее загадочно-прекрасными сказаниями, мой сосед Гошка, упорно утверждавший, что я его жена, несмотря на требования его деда называть меня невестой, другой мой сосед Рифат, с его невозмутимой флегматичностью и смешливостью, - словом, санаторий, который и был моим домом и с которым я ни за что не хотела расстаться. И чем больше меня утешала сестра, чем более заманчивые картины она мне рисовала, тем громче я ревела. Рев мой грозил перейти в настоящую истерику, когда в палату вошел Зиновий Давыдович. Я уткнулась носом в его большую волосатую руку, обмусолила ее и только собралась ему рассказать о своих горестях, как он, погладив меня по голове, ласково предложил повернуться на бок.
Предложение меня заинтересовало. Тут я впервые почувствовала свою свободу, осознала ее. Но повернуться на бок оказалось неожиданно трудно. Это потребовало от меня и внимания и усилий. Постепенно глаза высохли, я успокоилась, и когда через несколько минут Зиновий Давыдович вышел из палаты, я уже не думала о выписке, а с опаской и старанием пыталась поворачиваться на постели, крепко держась за края кровати.
Этот день оказался первым в ряду многих дней, когда я внутренне металась между радостью возвращения к жизни, к движению и горем близкой разлуки с санаторием, первым днем, когда началась моя упорная борьба с собственной слабостью, с непослушным телом, которая продолжалась многие годы. Но начало было самое трудное. Зинаида Ульяновна внимательно следила за моими успехами, в нашей палате постоянно раздавался ее голос, отдающий мне очередную команду:
- Ну, Женька, хватит тебе бездельничать, пора без напоминаний ворочаться с боку на бок! Теперь можешь спать на боку.
- Сегодня будем поворачиваться на живот. Ладно, для первого раза я тебе помогу. Потом будешь сама.
И, наконец, долгожданное:
- Сегодня, Женька, будем садиться!
Прошло больше недели, прежде чем я несколько освоилась со своим новым сидячим положением. Теперь меня сажали сравнительно надолго, и я сидела, подпертая со всех сторон подушками, держась за столик, который передо мной ставили специально для этого.
Одновременно с тем, что я училась сидеть и садиться без посторонней помощи, меня усиленно готовили к вставанию. Ежедневно приходила массажистка и старательно растирала мои ноги-спички и спину. Приходила и "физкультурница", и тут в постели я первый раз в жизни начала делать гимнастику. Тем временем техники начали готовить мне гипсовый корсет, в котором я должна была ходить.
ПОРА ДОМОЙВсе это время я жила как в лихорадке, то собираясь в комок для преодоления трудностей следующего задания Зинаиды Ульяновны, то тихонько хлюпая носом по поводу приближавшегося отъезда из санатория. В таком именно состоянии и застали меня родители, придя ко мне на свидание. На сей раз встретила я их совсем не приветливо и не радостно. На мамино восклицание: "Слава Богу! Ты выздоровела!" - я категорически заявила: "Домой все равно не поеду!" Отец почувствовал приближение бури с ливнем и предотвратил ее совершенно неожиданным для меня способом: "Не хочешь - не надо! - спокойно сказал он. - Не знаю, удастся ли мне уговорить Зинаиду Ульяновну навсегда оставить тебя в санатории, но попытаюсь по крайней мере уговорить ее отложить выписку". Действительно, через некоторое время отец привел ко мне Зинаиду Ульяновну, чтобы она подтвердила свое согласие повременить с отправкой домой. Это разрядило атмосферу, и я начала с гордостью демонстрировать родителям свои достижения, казавшиеся мне самой огромными.
Я не только успокоилась и в большой степени освободилась от угнетавшего меня страха, но в моих глазах значительно вырос авторитет отца. Поэтому, когда он, уходя, похвалил меня за успех и как бы между прочим бросил: "Не знаю, может быть, тебе все-таки будет интересно заехать к нам с матерью в гости на недельку-другую, а там обратно в санаторий", - я отнеслась к этому спокойно. Вначале предложение отца я молча пропустила мимо ушей, но он и не собирался дожидаться ответа. Родители попрощались со мной и ушли. Оставшись одна, я все чаще начала возвращаться мыслью к этому предложению. Страха не осталось - ведь поехать в гости это же только на время, а не насовсем, и место страха заняло любопытство. Уже само слово "поехать" завлекательно. До сих пор самым дальним моим путешествием была поездка на лестничную площадку бокового вестибюля, служившую местным карцером, куда нас возили в наказание за шалости. Там мы лежали как в одиночке, боясь вертеться, чтобы не скатиться с лестницы. В конце концов, я начала с интересом ждать родителей, чтобы все у них выспросить.
Последние месяцы моего пребывания в санатории я жила очень отчужденно, все время занятая какими-то своими мыслями, чувствами и делами.
Постепенно время подходило к началу обучения ходьбе. Это был долгий и тернистый путь. Обычно человек об этих трудностях даже не подозревает. Процесс обучения малыша ходьбе настолько естественен, что в памяти ребенка ничего не остается, ни первых шишек, ни первых синяков. У детей все получается само собой. Со мной все было иначе: ходьба давалась с трудом, а учение растянулось на годы. Первые попытки стать на ноги, сделать несколько шагов я сделала в санатории, когда мне еще не исполнилось и семи лет, а закончила обучение ходьбе только в четырнадцать.
Постепенно упорные тренировки, массаж, гимнастика сделали свое дело: я уже спокойно стояла на ногах, потом начала делать один-два шага по палате, правда, на костылях и с полотенцем под мышками, за которое меня поддерживала няня или сестра. Потом я даже стала выходить в холл со светлым буфетом, в котором была прежде только в день приезда.
Я уже не только научилась держаться на ногах, но и вполне свыклась с мыслью, что поеду домой погостить. В последующие посещения отец, который вел со мной переговоры, по-настоящему заинтересовал меня предстоящей поездкой. Не навязывая мне своих рассказов, он, с большим тактом, сумел вызвать меня на расспросы, а его заманчивые описания и самой поездки, и дома, и того, что там меня ожидало, привели к тому, что я с нетерпением стала ждать своего отъезда.
Как происходил переезд? расставание с санаторием? встреча с новым? Все полностью выпало из памяти. Даже удивительно, что я, помнящая до сих пор массу мелких подробностей из повседневной жизни санатория, ничего не удержала в памяти из того, что было связано с прощанием и моим переездом домой.
Очнулась я от прострации лишь через некоторое время после возвращения домой. Я лежу на маленькой открытой терраске, смотрю на небо, на белые стволы берез, на длинные плети веток. Мне спокойно и радостно.