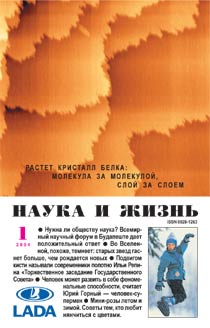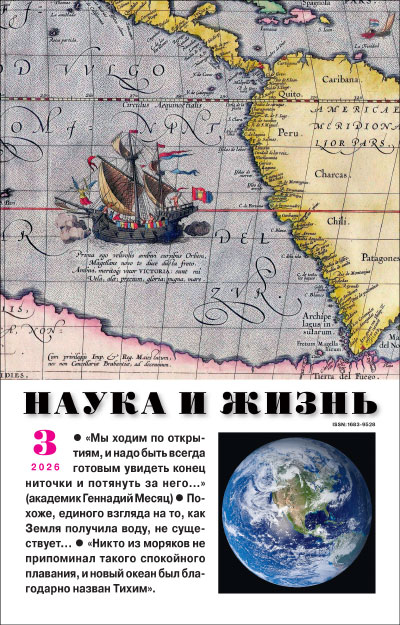Лиллиан Георгиевне Матросовой в начале войны не исполнилось еще и десяти лет. В блокадном городе умерла ее мама. Осиротевшая девочка лежала в больнице, жила в детском доме, и всюду были доброжелательные, заботливые люди, чувство благодарности к которым она хранит в сердце до сих пор.
Двадцать восьмого января 2003 года нас пригласили в Дом детского творчества, что на Зарайской улице в Москве. Торжество посвящалось очередной годовщине снятия блокады Ленинграда. В актовом зале в два ряда стояли столы, на шесть персон каждый, с шампанским, фруктами, бутербродами, пирожными. Блокадники и фронтовики как-то бесшумно разбрелись и сели за столы. Воспитанники Дома творчества дали концерт. И малыши, и уже признанные таланты пели наши любимые песни, читали стихи о блокаде, о войне, в красивых нарядах танцевали вальс - этюд из сельской жизни. Прозвучал тост за нас, за наше здоровье. Кто-то пригубил шампанское, кто-то выпил посмелее. За столами оживились, пели хором мелодичные, задушевные песни о любви к Родине, о красоте России и даже кружились в вальсе...
Наконец стали расходиться. Уже на улице высокий худой старик спросил, как отсюда доехать до метро. Я предложила дойти до метро коротким путем, тем более, что на улице было тепло. Спросила своего спутника, где он живет. "Дом помню, номер 20, а вот улицу забыл", - ответил он. Узнав, на какой стороне от метро находится его улица, я подсказала название. Старик радостно согласился. Он воевал под Ленинградом. На вопрос, сколько ему лет, ответил так: "Сколько лет, точно не скажу, но знаю, что родился в год, когда умер наш вождь". - "Вы имеете в виду Ленина? 3начит, в 1924-м?" "Да! Да!" - закивал попутчик. Мне стало немного не по себе, хотя и сама иногда сетую на свою память. Видимо, и годы и война многое отняли у нас.
Я подумала, что скоро не останется никого, кто мог бы рассказать о блокаде то, что знает блокадник. А люди далекие от тех лет, да и равнодушные к "теме", ради сенсации выскребут из каких-нибудь немецких донесений факты о "неизвестной блокаде", унижающие жителей Ленинграда. С трудом сдерживая слезы на концерте детского творчества, я вспоминала, как умирающий город спасал своих детей, и решила рассказать об этом.
Летом 1941 года я отдыхала в пионерском лагере от Балтийского завода. Неожиданно приехала мама и, сказав, что началась война, забрала меня домой.
Первый обстрел ошарашил нас стуком каких-то осколков по штакетнику детской площадки во дворе. Из четырех комнат нашей коммуналки мы все сгрудились в темной без окон прихожей. Это случилось восьмого сентября, накануне моего дня рождения. Колесница истории в очередной и не в последний раз "переехала" мою судьбу.
Ленинград еще пытался сохранять порядок мирного времени: начались учебные занятия, но не с первого сентября и не в школе, а в бомбоубежище. Занятия быстро прекратились: бомбоубежище все чаще стали использовать по прямому назначению.
Вскоре Балтийский завод назначил день эвакуации детей своих сотрудников. По Невскому еще ходили трамваи. Наша остановка находилась против Казанского собора, мы жили на улице Плеханова (теперь Казанская). На Васильевский остров ехали в пустом вагоне. С собой был узелок с вещами. Чемоданы просили не брать.
У здания заводского детского сада стояли автобусы, а рядом - огромная толпа родителей и детей. Началась посадка. В толпе не плакали, не кричали, толпа исходила истошным, душераздирающим воем... Это была безысходная боль прощания навсегда, резали по живому. Мы с мамой решили не расставаться, вернулись домой умирать вместе. Еще пекли иногда на буржуйке крахмальные лепешки, мама приносила с работы "бурду" - воду, в которой плавали зеленые листья капусты. Хлебный паек (обледенелый комок в 125 граммов), который как камень стучал по столу, мама резала на прозрачные ломтики, намазывала горчицей и, уходя на работу, просила не есть все сразу.
Наконец наступило время, когда не было сил спускаться в бомбоубежище и даже вставать с кровати, где я лежала в зимней одежде. Но однажды я оказалась сидящей в нашем коммунальном туалете, около меня хлопотали соседи, и вдруг... мне протянули чашечку какао и ломтик белого хлеба!!! Вскоре врач дала направление в больницу.
Мама в фетровых ботиках, с отмороженными пальцами, в меховом жакете модницы мирного времени, шатаясь, тащила меня на санках по Невскому проспекту в сторону Фонтанки. У Пассажа Невский пересекали пожарные рукава. Горел Гостиный двор. Из бывшего Дворца пионеров, где разместили госпиталь, были слышны крики: "Сестра, помогите!" И мы с мамой вновь вернулись домой - умирать вместе.
Вдруг неожиданно снова пришла врач и, обнаружив меня дома, громко сказала маме: "Если вы не хотите оставить на своей совести..!" Врач, сама блокадница, по собственной инициативе пришла проверить назначение! Так блокадный город спасал своих детей.
В приемном покое Лиговской больницы под высокими сводами потолков было много света и было тепло. Меня положили отмывать в ванну. Мы попрощались с мамой. Оказалось - навсегда!!!
Больничная палата, огромная, как спортивный зал, до последнего сантиметра была заставлена койками и всем, что можно было приспособить для поступающих детей. На двух железных кроватях, составленных вместе и застланных поперек от спинки до спинки, нас лежало рядком человек десять, а в ногах еще и годовалые. Почти каждый день приносили мальчишек с раздутой мошонкой (от голода отказывали почки), а утром их уносили мертвыми. Я была дистрофиком "необратимой" степени, кожа цвета пергамента лоскутом слезала с живота. А из-за цинги десны не просто кровоточили, а отваливалась кусками, голова была покрыта нарывами. К тому же от многомесячного лежания с поджатыми ногами атрофировались коленные суставы.
Но народная мудрость гласит: "Были бы кости, мясо нарастет". Наступила весна 1942 года. Нас откормили киселями, кашами, отпоили хвойными настоями. Когда я научилась ходить, выяснилось, что мама умерла. Меня отправили в детский дом. Он размещался на Мойке.
В детском доме мы были "тимуровцами" и делали все для фронта, для Победы. Концертмейстер ленинградского радиокомитета Остропятова руководила нашим хором. Нас записывали на ленинградском радио для раненых. Может быть, эти записи уцелели где-нибудь в архивах? Мы учились в городской школе, а летом выезжали на дачу.
За все время пребывания в детском доме я не помню ни одного окрика, ни одного грубого слова или каких-либо признаков раздражения со стороны взрослых. Заведующая Александра Ивановна, библиотекарь и музыкальный работник Эмилия Спиридоновна, да и все другие будто выполняли святую миссию спасения, защиты трагически осиротевших детей. Это была высокая планка гражданского долга, непоколебимой веры в Победу, веры в будущее Ленинграда и страны.
Из детского дома детей небольшими партиями эвакуировали. А меня разыскал отец. Летом 1943 года ночным авиарейсом я прилетела в Москву.