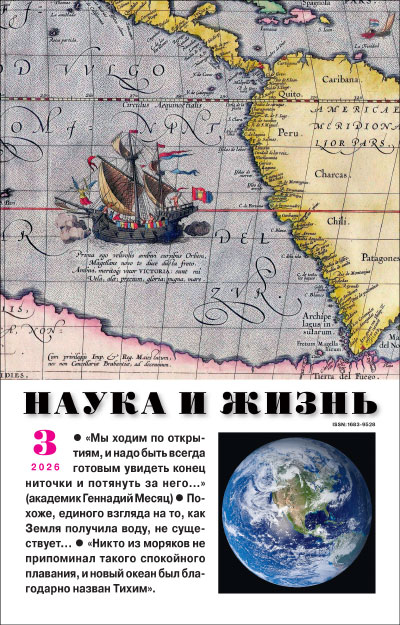Д. ДАНИН.
«ХОЛЬГЕР-ДАТЧАНИН»
А потом была вторая половина войны - годы семнадцатый и восемнадцатый.
...Истребительный террор германских подводных лодок, не щадивший, и датские корабли.
...Английские танки в Комбре.
...Немецкие газы на Ипре.
...Снова Верден и снова Марна.
....Снова атаки, и контратаки, прорывы и захлебнувшиеся в крови наступления.
И вещи решающей важности:
...Присоединение Америки к Антанте.
...Всеобщая усталость от бессмысленных жертвоприношений, неубывающих тревог, и растущей нужды.
...И наконец - дни революции в России. Поворотные мгновения века, когда слышно стало, по ком звонит колокол.
Это были шаги мировой истории, и гул их отдавался повсюду. Нейтралитет в войне не создавал нейтралитета в делах человечества. И в маленькой Данин люди молили о конце войны, одни - бога другие - разум, с теми же чувствами, что, и на большой воюющей земле молили, как об избавлении. И пораженно следили, одни - с надеждами, другие - со страхом, за революционными событиями на востоке Европы, ощущая нечто небывалое, и неохватное по своим последствиям в таком исходе войны.
А Бор - что думал он о происходящем?
Журналисты еще не осаждали его просьбами высказаться о политической злобе дня. (Он еще не удостоился той высшей степени популярности, когда человека настоятельно просят вслух поговорить о вещах, которыми он не занимается.) Возможно, за годы войны он все-таки стал чуть ближе к злобе дня, чем в предвоенном июле 14-го года, когда так беззаботно пустился путешествовать по Германии, несмотря на выстрел в Сараеве. Война, как землетрясение, всех понуждает прислушиваться к подземным толчкам, и подумывать о прочности окружающего мира. Но он по-прежнему не был надежным политическим сейсмографом не стал разбираться лучше в подпочвенном ходе истории - в ее социальных сдвигах и националистических безумствах. Все так же взвешивал логические возможности, и разумные решения, отдавая предпочтение самым логичным и самым разумным, как наиболее вероятным. Он относил себя к разряду людей «либерэл-майндид» - настроенных либерально, и мыслящих свободно. И это была безусловная правда. Но принадлежность к этому разряду вовсе не определяла исторической зоркости, потому, что совсем не такие люди делали историю, и влияли на ее течение
Он доверчиво полагал, что конец войны станет началом бессрочного благополучия в мире. И когда в ноябре 18-го года войне действительно пришел конец, и переполненные транзиты на морях и на суше возвращали солдат, и беженцев в их страны, города и селения, и люди в Копенгагене, как в Лондоне, целыми днями шатались по улицам, не замечая предзимней стужи, и ошалело обнимали знакомых, и незнакомых, и нескончаемо пили, и пели во всех кабачках и ресторациях, и не смолкали на перекрестках и площадях даже при виде молчаливых женщин в черном - матросских вдов из припортовых кварталов, и студенты забывали ходить на лекции, празднуя открывшееся перед ними бессмертие, и мальчики в коротких штанишках перестали на время размахивать деревянными ружьями, и мечами, - через две недели после того, как в Компьенском лесу под Парижем генералы и политики заключили, наконец, перемирие, профессор Бор написал профессору Резерфорду превосходные, и самые опрометчивые строки, какие ему доводилось препоручать бумаге:
Копенгаген
24 ноября 1918
«Больше никогда не будет в Европе войны таких масштабов все народы столь многое извлекли из этого ужасающего урока. Все либерально мыслящие люди в мире, надо думать, поняли непригодность принципов, на которых зиждилась до сих пор мировая политика»
...Всего через два десятилетия, в 1939 году, история напомнила Бору об этих строках. На страницах только, что вышедшей книги А. С. Ива об уже покойном Резерфорде он встретил тогда полный текст своего старого письма. Усмехнулся ли он, подумав о собственной былой доверчивости? Наверняка. И наверняка невесело. Оттого, и невесело, что времена снова были не приспособлены для улыбок уже расползавшаяся по Европе вторая мировая война принимала масштабы, несравненно большие, чем первая и фашизм уже преподносил европейским народам урок, во сто крат более ужасающий, чем тот, что усвоили двадцать лет назад прекрасные люди из разряда «либерэл-майндид». И вот только этот новый урок, как мы еще увидим, действительно отточил историческую проницательность Бора - так отточил, что в 1943 году он, физик-теоретик, показал себя одним из дальновиднейших политиков мира.
И все же тот неутомимый оптимизм тридцатитрехлетнего датчанина был мудрее вечно умного пессимизма. Он по крайней мере помогал работать, и жить. И, право же, вполне вещественным даром именно этого оптимизма было появление на свет в апреле 18-го года, - когда эпидемия смерти еще стояла у датских границ - второго маленького Бора не андерсеновские аисты, а вера в жизнь, и доверие к будущему принесли тогда полуторагодовалому Кристиану Альфреду младшего брата - Ханса Хенрика.
В мире тревоги и неуверенности род Бора прочно утверждал себя на земле.
Если бы малыши были уже повзрослее, и умели слушать сказки Андерсена, самая недетская и самая датская из них - «Хольгер-Датчанин» - символически поведала бы им в то трудное время кое-что существенное об их отце:
«Дед говорил о датских львах, и сердцах, о силе и кротости, объясняя, что есть, и другая сила, кроме той, что опирается на меч. При этом он указал на полку, где лежали старые книги.
- Вот он тоже умел наносить удары! - сказал дедушка. - Он старался обрубать все уродливости и угловатости людские. - Затем старик кивнул на зеркало, за которым был заткнут календарь с изображением Круглой башни (старой обсерватории), и сказал - Тихо Браге тоже владел мечом, но употреблял его не затем, чтобы проливать кровь, а для того, чтобы проложить верную дорогу к звездам небесным!..»
Вот на это и уходила, как прежде, вся зоркость разума Бора-Датчанина - на прокладывание верной дороги к звездам небесным. Или - без иносказаний - в глубины атомов земных.
По-прежнему вся его сосредоточенность уходила на это. И почти все его время. И если вторая половина войны все же чем-то отличалась для него от первой, то разве, что удвоением - буквально удвоением! - его озабоченности будущим атомной физики к собственным его теоретическим изысканиям теперь прибавились неотвязные мысли о создании теоретического института в Копенгагене. И это были уже не гадательные мысли от случая к случаю, а постоянные мысли-заботы.
Но, по правде говоря, он не решался еще произносить вслух громкое слово «институт». Хоть бы удалось ему раздвинуть стены жалкой комнатенки в Политехническом, и построить всего лишь «маленькую лабораторию», как написал он тогда Резерфорду. В том первом письме после перемирия он выдал свои давние вожделения косвенным признанием:
«Я чувствую, какое счастье Вы должны испытывать от того, что сможете теперь снова безотлучно трудиться в лаборатории, как в былые дни.»
Ему самому все больше и больше - до тихой одержимости - хотелось испытать это же счастье, да только с той разницей, что у него за плечами еще не было даже «дней былых» - никогда еще не было своего лабораторного пристанища, где он мог бы сам ставить эксперименты, связанные с кругом его идей. И он знал, что, как всегда, найдет в Резерфорде понимающую душу манчестерец Харальд Робинзон рассказывал, как Папа однажды заметил «А знаете, Робинзон, я жалею ученых-бедняг. не сумевших получить в свое распоряжение лаборатории!» И потому он так словоохотливо делился с Резерфордом первыми радостями предприимчивого организатора:
«Если говорить о внешних условиях моей работы здесь, я должен Вам рассказать еще, как радует меня, что создание маленькой лаборатории. отныне гарантировано разрешением правительства приступить к возведению здания, как только детальный проект будет получен из рук архитектора. Это великолепный итог наших усилий, и все осуществляется прежде всего благодаря необычайному великодушию одного из моих здешних друзей, который сам внес и собрал по подписке среди своих приятелей большую сумму (80 000 крон - в общей сложности 4 500 фунтов стерлингов), чтобы помочь университету покрыть строительные расходы, и обеспечить закупку лабораторного оборудования. Лаборатория будет расположена на краю прекрасного парка неподалеку от центра города, и мы сами переедем жить туда»
Теперь, когда кончилась война, все выглядело легкодостижимым, и Бор, еще не начав строительства, уже приглашал Резерфорда вместе с Мэри на будущие торжества по случаю открытия лаборатории. И с пылкостью еще ни на кого не растраченного гостеприимства предлагал им апартаменты в своей пока не существующей квартире возле Фёллед-парка.
Он уже видел себя в роли главы - пусть поначалу крошечного, но независимого - физического государства на Блегдамсвей. Это будет его Манчестер - как у Резерфорда, его Кембридж - как у Томсона, его Мюнхен - как у Зоммерфельда. (Географической карте физики, как, и политической карте Европы, предстояло измениться после войны - к счастью, по причинам прямо противоположным, чем вражда, и кровопролитие.) И одно только предвкушение этой близкой перемены делало его счастливым. И доставляло во сто крат больше удовлетворения, чем первые уже снизошедшие на него почести избрание в 1916 году президентом Физического общества Дании, а в 1917-м - членом Датской академии.
Об этих новостях он Резерфорду не сообщал. Почести, и дело жизни - вещи несоизмеримые.
ЯКОРЬ, БРОШЕННЫЙ НАВСЕГДА.
А тем временем Резерфорд вынашивал планы укрепления своего - изрядно пострадавшего от войны - манчестерского государства. И, еще не зная тогдашнего умонастроения Бора, отправил ему сразу после перемирия полное соблазнов послание. Их письма снова, как это уже бывало не раз, разминулись в пути.
Рассказав об «исступленно-бредовых радостях минувшей недели» - первой недели мира, Резерфорд продолжал:
«Возможно, Вы слышали, что мы учреждаем степень доктора философии. Мы также намереваемся превратить Манчестер в подлинный центр исследований по современной физике. Вспомните наши разговоры о месте профессора математической физики в лаборатории. Похоже на то, что дело развернется стремительно. Мне бы хотелось быть уверенным, что Вы, как, и прежде, готовы отнестись с серьезностью к приглашению на хороший пост, который обеспечит Вам примерно 200 фунтов стерлингов в год.
Вы знаете, как мы были бы рады видеть Вас снова здесь работающим вместе с нами. Думаю, что мы вдвоем могли бы хорошенько постараться и устроить в физике настоящий бум! А ну-ка обдумайте все это, и дайте мне знать о Вашем решении, как можно скорее.»
Нетрудно представить себе шумное нетерпение, с, каким сэр Эрнст каждый день осведомлялся, утром - в лаборатории, вечером - у Мэри, не пришло ли письмо из Копенгагена. Его нетерпение было тем несдержанней, что он в своем послании искушал датчанина не только английскими фунтами, степенью доктора и завидным профессорством:
«Я так хотел бы иметь Вас под рукой, чтобы подвергнуть обсуждению некоторые данные моих экспериментов по столкновению ядер. Полагаю, что я пришел к довольно сенсационным результатам. Но это тяжкий, и долгий труд - раздобыться убедительным доказательством моих выводов»
Кто-кто, а уж он-то верно рисовал себе натуру копенгагенца!.. Много лет спустя, в четвертом интервью историкам, старый Бор выразился так по поводу одного эпизода из тех давних времен:
- Это сулило громадное наслаждение, потому, что нашлось нечто, не поддававшееся объяснению обычным путем!
В эту точку и прицелился Резерфорд. Громадное наслаждение именно такого свойства пообещал он Бору в своем письме.
Речь шла об истолковании результатов радиоактивной бомбардировки атомов легких газов. На протяжении всего последнего года войны, с трудом урывая время от осточертевших обязанностей эксперта по военным исследованиям, занимался Резерфорд этими опытами в обезлюдевшей манчестерской лаборатории. И увидел при бомбардировке азота рождались непонятные частицы - более длиннопробежные, чем сами бомбардирующие альфа-частицы радия. Возникло предположение, пока, разумеется, осторожно молчаливое, а не осколки ли это азотных ядер?! Чистой интуицией Резерфорд уже предугадывал, что ему, пожалуй, удалось напасть на след небывалого процесса - искусственного расщепления атомного ядра. Если так, то он впервые в истории превратил одни атомы в другие! Перспектива такого истолкования его опытов была столь возвышающей, что захотелось тотчас приземлить ее. Жаргонные слова о будущем «буме в физике» как раз годились для этого. Он уверен был жаждущий всепонимания датчанин улыбнется, и не устоит.
Но кончился ноябрь, декабрь уже катился к рождеству, а письма из Копенгагена все не было. Неужто сверх вежливый - иногда изнурительно вежливый - Бор изменил себе и не внял его просьбе ответить, как можно быстрее?!
Однако Бор тут был ни при чем. Даже придавая своему письму чрезвычайное значение, сэру Эрнсту, по-видимому, не следовало делать на конверте дразнящую пометку - «Лично, и конфиденциально!» Еще неделю назад, в дни войны, он не рискнул бы так возбуждать подозрительность почтовой цензуры, обрекая письмо на затяжную перепроверку. (Вдруг английский профессор передает нейтралу важную информацию! И по вечной наивности интеллектуалов сам предупреждает об этом.) Логика подозрительности хитра. А тут еще неполадки с судоходством. И хотя уже наступил мир, письмо где-то застряло. Бор получил его только через месяц.
Конечно, он ответил немедленно. И, конечно, его ответ - пылающий искренней преданностью! - все-таки не мог принести Резерфорду ничего другого, кроме еще большего огорчения, чем предшествующее молчание датчанина.
Копенгаген
15 декабря 1918
«Не знаю, как высказать Вам мою благодарность за Ваше письмо от 17 ноября, которое я только, что получил. Оно доставило мне величайшее удовольствие, и в то же время стало для меня предметом раздумий, полных сожаления.
Вы знаете, что это было всегда моим жгучим желанием - работать бок о бок с Вами в обстановке Вашего заразительного энтузиазма, и того вдохновения, которым Вы так щедро одариваете всех окружающих. Я с такою полнотой уже испытал это на себе. Вместе с тем я сейчас не вправе принять Ваше блестящее предложение, за которое благодарен Вам сильнее, чем мог бы выразить это. ибо в нем заключено больше веры в меня, чем я того заслуживаю»
А дальше шла исповедь совершенно в духе Хольгера-Датчанина. И слышался голос иных побуждений для самоотреченного труда, чем только поиски правды природы. И бескорыстие возрастало до готовности к жертвам, но не столько во имя самой науки, сколько ради других ценностей, не обсуждаемых на языке физики.
«Суть в том, что я чувствую себя нравственно обязанным посвятить свои силы развитию физических исследований в Дании, и этому будет служить моя маленькая лаборатория.
.-.Университет делает все, что может, дабы создать необходимые условия для моей научной работы. Разумеется, мое личное годовое жалованье, материальные средства, равно, как, и все, что требуется для успешного ведения дела, будут у нас гораздо ниже английского стандарта.
Но я сознаю, что это мой долг - трудиться в Дании, делая свое дело наилучшим образом, хотя для меня и очевидно, что здесь я не смогу добиться того же, чего сумел бы достичь, работая вместе с Вами.»
Сэр Эрнст должен был бы сразу понять, что отныне даже ему уже ничем не прельстить Бора. Однако Резерфорд был не из тех, кто легко отступается от своих планов. Вернувшись после рождественских каникул домой, он предпринял еще одну атаку на датчанина. За море снова ушло красноречивое письмо - правда, на сей раз без гипнотизирующей пометки «Лично, и конфиденциально!»
Манчестер И января 1919
«Конечно, это было для меня большим разочарованием - услышать, что Вы полагаете своим долгом оставаться работать в Вашей стране, но я надеюсь, что Вы не решите этот вопрос безоговорочно, прежде чем не воспользуетесь случаем побывать в Англии, и потолковать обо всем этом со мной.»
Прежняя нетерпеливость теперь смягчилась до* необязательной просьбы приехать поговорить, «как только станут возможными нормальные путешествия по морю». Все-таки он рассчитывал на свою необоримую силу - на то, что сам Бор называл «очарованием его порывистости». Рассчитывал - хотя, и помнил о манчестерских вечерах в марте 13-го года, когда долинная тишина пересилила горные обвалы. Просто физически ощутимо, как не хотелось ему смириться с мыслью, что копенгагенец бросил якорь в Копенгагене навсегда. (И теперь его не заманишь больше чем на краткий визит.)
А меж тем это - якорь, брошенный навсегда! - уже действительно произошло.
СНОВА НА ПЕРЕПУТЬЕ
Случайно ли совпадение, что именно тогда, на рубеже войны, и мира, свою очередную работу, задуманную в четырех частях, и превышавшую объемом все предыдущие. Бор решил опубликовать не в английском журнале, а на страницах «Трудов Датского Королевского общества»? Первая часть появилась уже в апрельском номере 18-го года. Вторая - в декабрьском.
Впервые после докторской диссертации Бор печатал большое исследование в Дании. И еще одним знаком приверженности к взрастившей его почве выглядело посвящение на той работе:
«Памяти моего высокочтимого учителя - профессора С. Кристиансена»
...Семидесятичетырехлетний Кристиансен умер в ноябре 17-го года, завещав «Великой физике» одно неоценимое открытие - Нильса Бора. По праву первооткрывателя старик гордился успехами своего бывшего студента, даже не очень понимая их сути. Он держался не слишком высокого мнения о возможностях датской науки, но, любя свою Данию, опасливо думал, что его ученик предпочтет работать за границей. И в день погребения старого добряка перед глазами Бора еще стояли прочувствованные строки из недавнего письма Кристиансена, в котором тот поздравлял его с копенгагенской профессурой:
«Я знаю Вас с Ваших юных лет, и я никогда не встречал никого, кто бы так досконально углублялся в предмет, кто бы так неутомимо доводил начатое до конца, и кто вместе с тем был бы исполнен такого всестороннего интереса к жизни вообще.»
Каждая из этих строк была полна значения для Бора.
«С Ваших юных лет.» Невольно явилась мысль, что из былого интеллектуального квартета, собиравшегося по академическим пятницам в кабинете отца, теперь лишь двое продолжали свой жизненный путь - Вильгельм Томсен и Харальд Хеффдинг. Языковед, и философ. В печали прощания с ушедшим учителем Бор благодарно вспоминал и о них - еще живых, и работающих. Далекие от точных наук, не они ли, однако, в те давние годы заставляли его, подростка, задумываться если не над устройством природы, то над устройством нашего знания? Теперь его вынуждала задумываться над этим сама квантовая физика - трудности постижения микромира.
И уже предугадывалось «доскональное углубление в предмет» столкнет его мысль с философскими недоумениями, какие не мучили физиков прежде.
И уже предчувствовалось «неутомимое доведение начатого до конца» приведет его к размышлениям о лукавых свойствах нашего языка, до которых прежде физикам не бывало решительно никакого дела.
Да, все это уже предугадывалось, и предчувствовалось, хотя мысль его по-прежнему работала привычным для теоретика чередом - без философических претензий. Под размеренный скрип его прочных подошв - в сосредоточенной тишине домашнего кабинета на Герсонсвей, и рабочей комнатки на Сольвгаде - Крамере терпеливо ловил на кончик пера все те же слова стационарные состояния, спектральные линии, периодические движения. Правда, теперь все чаще склонялись на разные падежи и другие термины, прежде редкие или не возникавшие вовсе «Фурье-компоненты», «гармонические составляющие», «вероятности перехода». И все это принадлежало словарю физики - не философии.
Снова, и снова он спрашивал себя откуда бралась доказанная жизнеспособность его странной модели атома? Отчего и, как могли уживаться в ней явно несовместимые начала - скачкообразные переходы (между орбитами), и непрерывность движения (по орбитам)? Чем оправдывалось сочетание несочетаемого - законов Кеплера и закона Планка?
А позади таких логических вопросов высился главный, чисто физический, детски простодушный, что вообще заставляет атомы излучать свет?
По классической теории - по электродинамике Максвелла-Лоренца - движение заряженных частиц порождало в пространстве электромагнитные волны. И это можно было назвать причиной излучения. А в его, боровской, модели электроны, летящие по разрешенным орбитам, энергии не теряли - электромагнитные волны от них не отчаливали. (Иначе атом не сохранял бы свою устойчивость.) Классическая электродинамика на орбитах не действовала. Кванты света рождались в процессе неделимых, и неуследимых электронных перескоков с орбиты на орбиту.
Казалось бы, тоже механическое движение был электрон там - оказался здесь. Но беда заключалась в том, что таких скачков не знавала классическая механика из-за принципиальной неделимости их нельзя было описывать, как процесс, как перемещение во времени от точки к точке!
Бору ведь и пришлось постулировать их, как неуследимые или - лучше - непроследимые. А когда бы не так, и любой скачок дробился на более мелкие скачочки, а те - на еще более мелкие, снова становилось бы необъяснимым рождение целых квантов одного цвета. Движение электрона с орбиты на орбиту предстало бы непрерывным, и раз уж тут происходило излучение, оно тоже предстало бы в виде непрерывного спектра, а не линейчатого. Теория вступила бы в противоречие с опытом. Ее незачем было бы создавать.
Но вынужденное примирение с идеей квантовых скачков тотчас возбуждало естественный вопрос по, какой необходимости они случаются? Почему без всякого внешнего воздействия атом переходит из одного устойчивого состояния в другое? Больше не связанное с ускоренным движением, которое поддавалось бы классическому описанию, чем вызывается излучение атомов?
ПОЯВЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Для Бора были тогда отрадой дважды прозвучавшие в недавних статьях Эйнштейна слова высокой оценки его модели. Хотя шла еще война, обе эйнштейновские работы сразу стали широко известными среди физиков-теоретиков.
В конце 16-го года Эйнштейн написал:
«С тех пор, как предложенная Бором теория добилась выдающихся успехов, едва ли можно усомниться, что основополагающая идея квантов должна быть сохранена»
В середине 17-го года Эйнштейн отметил «Ныне можно уже утверждать, что второе правило Бора (постулат квантовых скачков. - Д. Д.) принадлежит к числу незыблемо установленных основ нашей науки.»
Бор в ту пору не знал (и, возможно, не успел узнать вплоть до самой смерти), что еще перед войной, на исходе 13-го года, Эйнштейн однажды выступил вслух защитником его квантовой модели. Об этом только в мае 1964 года, и то лишь в частном письме, рассказал старый швейцарский профессор Танк историку Максу Джеммеру. Дело было на еженедельном физическом коллоквиуме в Цюрихе, где присутствовали фон Лауэ и Эйнштейн. После доклада о только, что появившейся теории Бора между ними произошел обмен выразительными репликами:
Макс фон Лауэ - Это вздор! Уравнения Максвелла действительны во всех обстоятельствах, и электрон на орбите должен излучать!
Эйнштейн - Нет, это не вздор, это замечательно! И что-то должно скрываться за этим.
В конце концов не имело значения, что Бор не знал той цюрихской истории о первом мимолетно восторженном отзыве Эйнштейна он уже слышал в свое время от Хевеши. Слова признания в недавних статьях были оттого отрадны, и существенны, что сопутствовали собственным усилиям Эйнштейна обогатить квантовую теорию излучения - открыть загадочное «что-то», лежавшее за его, боровскими, постулатами. Опираясь на квантовую модель атома, да еще на статистический закон радиоактивного распада, Эйнштейн провозглашал одну многообещающую идею.
Он взглянул на процессы атомного излучения под тем же углом зрения, под, каким Резерфорд в монреальские времена посмотрел на радиоактивные превращения атомов. Испускание квантов света напомнило ему испускание радиоактивных частиц оно тоже совершалось без всякого внешнего влияния, а сами кванты тоже являли собою частицы. И для описания процессов излучения, по-видимому, тоже годились статистические законы случая. Ничего не зная о механизме квантовых скачков, можно было, однако, предположить, что рождение разных квантов в разных атомах происходит с разной вероятностью.
Эйнштейн сумел ввести эти вероятности в теорию. И получил поразительно простой вывод сложной формулы Планка для теплового излучения. Это он сам назвал свой вывод поразительно простым. Другие называли его потрясающе простым, изумительно простым, фантастически простым. И такая простота служила ручательством правоты. Идея Эйнштейна работала.
Но главных вопросов это не снимало. Скорее, наоборот, обостряло их. И новое сочинение Бора «О квантовой теории линейчатых спектров», задуманное в четырех частях, должно было охватить все понятое, и не понятое теоретиками за минувшие годы, когда войне в общем-то не удалось оставить Физику в дураках.
(Не удалось, не удалось! И не только благодаря Резерфорду, и Зоммерфельду. Обширен был перечень тех, на чьи работы Бор собирался ссылаться, подвергая детальному обсуждению свой взгляд на вещи. Кроме Эйнштейна, и Зоммерфельда, там значились, и другие имена - громкие, и негромкие Бургере, Дебай. Кембл, Уилсон, Шапошников, Шварцшильд, Эпштейн, Эренфест. Их работы военных лет лежали у него на столе, пока он готовил первую часть.)
Четыре части - четыре разговора с природой, и самим собой. В те дни, когда кончина Кристиансена пробудила его воспоминания о дискуссионных пятницах в доме отца, он, как раз трудился над программным вступлением к этому сочинению. И через полгода, печатая первую часть, почему-то отдельно задатировал Введение - «Копенгаген, ноябрь 1917 года». Точно хотел помочь будущим историкам.
Там были слова, и вправду пульсирующие живой историей. Их стоило задатировать, ибо завтра все могло измениться. Он чувствовал это:
«Многие трудности, по природе своей фундаментальные, остаются неразрешенными. Эти трудности сокровенно связаны со свойственным квантовой теории решительным отходом от обычных идей механики, и электродинамики, и с тем фактом, что до сих пор не удалось заместить эти идеи другими, образующими столь же последовательную, и развитую систему. При таком положении теории, пожалуй, представляет интерес попытка обсудить различные ее приложения с единой точки зрения.
В предлагаемой работе будет показано, что, кажется, есть надежда пролить некоторый свет на эти беспримерные трудности, попробовав проследить - так далеко, насколько это окажется возможным, - черты сходства, сближающие квантовую теорию с обычной теорией.»
...Часто, в дни вынашивания масштабных замыслов, исследователей, и художников легко, и по всякому поводу («как женщин, понесших впервые») охватывает чувство отъединенности от окружающих. Приступы одиночества среди людей. Не тот ли ноябрь вспоминался Бору, когда позднее он писал Зоммерфельду о временах своего одиночества в науке? Тогда возник для этого, и вполне ощутимый повод пока он обдумывал, и набрасывал свои программные строки, Крамерса не было в Копенгагене. Единственный ученик - с полуслова понимающая душа! - как раз в ту пору отлучился ненадолго; сохранились их письма друг к другу, помеченные серединой ноября.
Но снова, как, и раньше, это чувство одиночества могло быть у него только кратковременным. Уже в декабре он рассказывал Резерфорду, как существенно для него сотрудничество юного голландца. А весь восемнадцатым год, когда намеченная программа осуществлялась, Крамере был рядом. И взрослел на глазах, превращаясь в сильного теоретика.
Когда выпадали свободные дни, и часы, он писал самостоятельную работу. А такие часы, и дни выпадали тем чаще, чем неотвязней становилась вторая любовь Бора - проект будущей «маленькой лаборатории», требовательный, как все новорожденные его надо было неотступно нянчить. Но, и наедине с собой Крамере продолжал жить в кругу исканий учителя. И он все глубже чувствовал, какое это было верное решение - обосноваться у Бора все равно, что поселиться прямо в штурманской рубке корабля идущего к новым землям.
И штурман радовался, что два года назад приветил самоуверенного юнгу тонкости навигации давались ему, как, и предсказывал Харальд, без груда. Крамере блистательно владел аналитическим аппаратом классической механики. Вот, как скоро пригодилась его математичность!
Несмотря на все отвлечения, они хорошо работали в тот год. Несчитанные километры прошел Бор мимо стола ассистента, как всегда, вышагивая понимание. Уверенное перо Крамерса поскрипывало в такт поскрипыванию его прочных подошв. Вместе это было негромкой музыкой сосредоточенности. А когда останавливались шаги, и повисало в воздухе перо, и начинались долгие споры, все равно это длилась музыка сосредоточенносги, теперь уже не приглушенная, а нараставшая вместе с силою доводов «за», и «против»
Программа Бора выросла из идеи, пустившей корни еще в первой статье его Трилогии 13-го года. Там эта идея называлась «соображениями сходства» - сходства между квантовой теорией, и классикой. И сейчас он сохранял это же название. Знаменитый термин «принцип соответствия» пришел ему на ум гораздо позже.
Снова он возвращался к истокам своей атомной модели.
...Прерывистая череда стационарных состояний.
...Лестница разрешенных уровней энергии атома. И закономерное свойство этой лестницы чем выше она поднимается, тем ниже ее ступени. Они сходят на нет. Лестница превращается в пологий пандус.
...Чем дальше от ядра, тем короче квантовые скачки с уровня на уровень. Все плавней переходы между соседними стационарными состояниями. И квантовая прерывистость все менее отличима от классической непрерывности. И потому на далекой периферии атома словно бы начинает годиться обычная физика.
...Там, в сущности, кончаются атомные владения. И там, как бы усмиряется электрон. непонятно скачущий при испускании квантов. Там, как позднее выразился Бор, «движения в двух соседних разрешенных состояниях отличаются друг от друга незначительно». А эти движения - планетный полет электронов по далеким орбитам. И возникает искушение - вновь восстановить утраченную связь между частотой обращения электрона вокруг ядра, и частотой покидающих атом электромагнитных волн. Иными словами, возникает предлог вновь поискать причину испускания света в обычном движении. Обычном - это значит поддающемся классическому описанию.
Нет, он не искал избавления от квантовых скачков. И не питал иллюзии, что странные прерывности могут исчезнуть из физики атома. Но жива еще была надежда хоть, что-то разведать об этих скачках - о скрытой структуре этих прерывностей.
Бору хотелось попристальней вглядеться в математические возможности классического описания движения. Не могло ли оно все-таки кое-что рассказать о сложном поведении атомных электронов?
ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ.
Еще в первой части своей Трилогии - пять лет назад - он вскользь упомянул об одной теореме вековой давности о хорошо известной каждому математику, и физику теореме Фурье. (Он предпочел слово «теорема», хотя обычно говорят о суммах, рядах или методе Фурье.) И он потому упомянул уже тогда о построении выдающегося французского математика, что оно, как это ни странно, легко наводило на мысль о квантах - порциях излучения одной частоты.
Красивый метод Жана Батиста Фурье (1768 - 1830) позволял представить любое причудливое движение частицы - было бы оно непрерывным! - в виде суммы или мозаики простейших волн. Такие волны - изображения гармонических колебаний материальной точки. Всем знакомые со школьных лет синусы, и косинусы. По отдельности они могут ничем не напоминать истинное движение тела. Но, когда их множество, и все они разные по частоте, и размаху - короткие, и длинные, крутые, и пологие, - их наложением можно обрисовать любую кривую линию в пространстве-времени. От случая к случаю будут меняться только порции этих элементарных волн - простых колебаний различные порции - различный итог суммирования. Оттого, и движение электрона в атоме можно, как говорят математики, «разложить в ряд Фурье»
Какое облегчающее сравнение мог бы придумать Бор, если бы его давние друзья по Эклиптике, гуманитарии, вдруг полюбопытствовали в чем тут фокус? (А тут математический фокус, не более того. Однако полный смысла, как все конструкции математики. В конце концов в них отражается если не структура нашего мира, то структура возможностей нашего точного знания.)
Он мог бы взять для наглядности просто, какое-нибудь большое число. Скажем, населенность Копенгагена времен его детства - 312906 жителей в 1895 году. (Какой маленькой была тогда столица!) Раз уж записано это число в десятичной системе, ничего не стоит разложить его по степеням десяти:
10^0, 10^1, 10^2. 10^3. 10^4 10^5.
Это, как бы «простейшие волны» такого разложения. И самый вид числа 312906 тотчас показывает, из скольких порций этаких волн оно составляется надо взять 3.100000, 1.10000, 2.1000, 9.100, 0.10, 6.1. А затем сложить эти порции по возрастанию степеней десяти 312.906 равно
6.10^0 + 0.10^1 + 9.10^2 + 2.10^2 + 1.10^4 + 3.10^5
Любое число можно представить такой красивой суммой. А можно разложить его, и на другие составляющие - по другому закону. Была бы нужда, и охота.
Конструкция ряда Фурье, конечно, сложней суммируются не числа, а колебания. Но если сделать моментальный снимок с движения частицы, различие почти исчезнет. Ведь в каждый данный момент все посильные вклады составляющих волн в перемещении движущейся точки-тоже всего лишь числа. Из суммы этих чисел, и слагается координата частицы в мгновение съемки. Так, что в общем-то принцип тот же, что, и при разложении большого числа. Ничего загадочного.
И любое движение тоже можно изобразить множеством разных способов. Фурье прельстили волны. И в его методе было нечто музыкальное выбрав на роль составляющих в своей мозаике гармонические колебания, он, как бы увидел-услышал в сложном движении слитный аккорд из набора простейших звуков разных тонов, и разной силы. И это его математическое открытие оказало через сто лет важную услугу Бору, пытавшемуся вникнуть в происхождение спектральной музыки атомного излучения (так выразился однажды Арнольд Зоммерфельд).
Первый шаг был очевиден.
В движении атомных электронов можно было увидеть гармоническую мозаику. Такое изображение годилось, во всяком случае, гам, где они двигались непрерывно, - на орбитах. И, разумеется, искусительно было подумать атом излучает электромагнитные волны именно таких частот, и такими порциями, какие соответствуют разложению в ряд Фурье. Тогда классическое описание движения автоматически давало бы весь набор испускаемых квантов.
Это было бы слишком хорошо - слишком логично!
Такая мысль не могла бы прожить, и минуты ведь, как раз на орбитах-то никакого излучения, и не происходило. А происходило оно, когда наступали квантовые скачки.
Но тут кончалась классическая непрерывность движения. И тут терял свою силу метод Фурье никаким суммированием воображаемых волн нельзя было бы заделать дыру в непрерывности - заполнить разрыв, где перемещение электрона не поддавалось обычному описанию во времени, и пространстве.
Однако у Бора был в запасе шаг второй.
Он сразу обратился мыслью к далекой периферии атома. Там, где квантовые скачки постепенно сходили на нет, можно было закрыть глаза на неприметные разрывы в непрерывности. И в спектральной музыке, исходившей из этой «граничной области», как называл ее Бор, уже почти ничто не мешало услышать классический аккорд Фурье. Разложив его на составляющие звуки, можно было убедиться, что главное получается в общем правильно атом действительно испускал спектральные линии такой частоты, и такой яркости, каких, и следовало ожидать. И могло показаться, что уж для этой-то граничной области в самом деле вновь удалось связать излучение электромагнитных волн с вращением электронов.
Но снова - это было бы слишком хорошо!
Полного благополучия не получалось, и здесь. Ведь аккорд потому, и аккорд, что составляющие его звуки издаются одновременно - не чередой, а сразу. И, стало быть, все цвета в атомном спектре должны были бы обязательно испускаться одновременно. Классическая теория это, и утверждала. А квантовая модель Бора это категорически запрещала.
Атом мог испускать единовременно лишь один, какой-нибудь квант - никак не больше! В противном случае пришлось бы приписать электрону мистическую способность участвовать сразу во всех вариантах квантовых скачков. А сам атом оказался бы способен пребывать в один, и тот же момент времени во всех разрешенных природой стационарных состояниях. Словом, и аккордное излучение спектральных линий заведомо было бессмыслицей. И потому даже для почти классической граничной области атома разложение на электронные волны оставалось чисто математическим фокусом. И казалось, даже тут соблазнительная процедура Фурье не сможет обзавестись физическим смыслом.
Однако был у Бора в запасе третий шаг.
Все-таки таилось же, что-то реальное за счастливым совпадением опыта, и расчетов! И, если с периферии атома уходило излучение таких частот, и такой яркости, как предсказывала классика, это требовало расследования.
...Конечно, добрым знаком было уже то, что снова подтверждалось единство природы наводился мостик между микромиром квантовой физики, и макромиром физики классической. И это выглядело тем привлекательней, что мостик наводила неумолимая математика.
Но не за такой добычей пустился тогда в дорогу Бор. Философического удовлетворения физику-теоретику всегда мало (если он еще недостаточно состарился). Хочется удовлетворения предметно-конструктивного понять бы, «какие винтики использует при этом господь бог» (Шутливо-мечтательная фраза Эйнштейна из письма к Зоммерфельду тут, как нельзя более кстати.)
Что же могло скрываться за близким совпадением надежных спектроскопических данных с незаконными вычислениями по методу Фурье? Логика ответа не приготовила. И потому выдался случай еще раз
«испытать громадное наслаждение от того, что нашлось нечто, не поддававшееся объяснению обычным путем»
А каков мог быть необычный путь?
Физик не вправе ссориться с двумя стихиями - с природой, и математикой. Нельзя было ни отвергнуть данных эксперимента, ни усомниться в вычислениях. Оставалось, минуя строгую логику, приписать разложению Фурье физический смысл, который изначально там не содержался. Это, и был третий шаг. Из тех, на, какие решаются, - правда, с противоположными результатами-либо профаны, либо провидцы.
Шаг не по дороге, а в сторону.
ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ
Итак, математическая теория настаивала на физически невозможном все цвета атом испускает одновременно. Но довольно было поставить слово «атом» во множественном числе - допустить грамматическую ошибку! -, и это утверждение становилось правдой.
То, на, что не способен один атом, под силу их множеству. В каждом осуществляется один из вариантов квантового скачка. Во всех вместе - множество вариантов. И чем больше атомов излучают одновременно, тем вероятней, что они исчерпают все допустимые перескоки по энергетической лестнице спектр действительно продемонстрирует сразу все цвета.
Так, и возникают реальные спектры.
В лаборатории или во вселенной - в пламени горелки или в недрах звезд - свет испускают в одно, и то же время мириады атомов мириады возбужденных микросистем «ядро -4электроны». И там на самом деле происходят в один присест все разрешенные природой переходы между устойчивыми состояниями. А спектроскоп работает, как статистическое бюро сортирует прилетающие кванты по частотам электромагнитных волн, и собирает одинаковые вместе, выстраивая каталог разноцветных линий. И выясняется они различны по яркости. Значит, одних квантов прибывает больше, других меньше. Отчего же? Очевидно, оттого, что разные варианты квантовых скачков не равноправны - случаются с разной вероятностью. Новый ход размышлений сам собой приводил к недавней идее Эйнштейна.
...Так, в спектре натрия ярче всего горит желтая линия, сигнализируя, что в подавляющем большинстве натриевых атомов происходит скачок с испусканием «желтого кванта» - почему-то этой возможности природа оказывает предпочтение.
Реальный спектр - действительно аккорд. Но статистический! Музыка не атома-одиночки, а неисчислимого атомного оркестра.
С этой-то точки зрения Бор, и взглянул на сумму Фурье. В старой формуле он, как бы увидел математический образ современного спектроскопа. И формула, и прибор делали, в сущности, одно, и то же раскладывали сложное излучение на составные части. И эта параллель обещала быть плодотворной.
Так, прозрачным физическим смыслом наполнилась величина порций простейших волн в разложении Фурье. Теперь эта величина стала указывать на относительное число прибывающих квантов разных частот. Она сделалась мерой яркости спектральных линий - мерой их интенсивности.
И потому - мерой вероятности разных квантовых скачков в излучающих атомах!
Правдоподобно истолкованная формула - большая сила. Она позволяет приняться за предсказание еще не наблюденного. Бор приступил к этому незамедлительно - уже во втором параграфе первой части своего исследования. Как это обычно делают теоретики, он сразу подумал об одном крайнем случае есть такие излучающие системы, - не только атомы, - что в их мозаике Фурье порции некоторых элементарных волн равны нулю. Иначе говоря, отсутствуют.
...Вот ведь сразу видно, что в разложении числа копенгагенцев - 312 906 - по возрастающим степеням десятки, отсутствует порция 10. Сотен - 9, единиц - 6, а десятков - 0. Они не вносят никакого вклада в это число.
И в суммах Фурье слагающие волны выстраиваются закономерно. На свой лад, конечно по возрастающим частотам гармонических колебаний. Точно атом - сумасшедшая часовая мастерская, где качаются, ритмически обгоняя друг друга, неисчислимые маятники. Совокупность таких воображаемых маятников - разная для разных случаев движения излучающего электрона. Но, когда в сумме Фурье иные из гармоник отсутствуют - их порции равны нулю, - это верный знак того, что они не вносят в излучение атома никакого вклада. Маятников с такими частотами в мастерской нет. Или они остановлены.
А если верна идея, что ряд Фурье - это математический образ спектроскопа, работающего, как статистическое бюро? Тогда нули в этом ряде означают, что иные из ожидавшихся линий просто не появятся в спектре. Квантов таких частот в излучении не будет. И можно заключить, что вероятность нужных для этого квантовых скачков равна нулю.
Природа почему-то их запретила.
Такие запреты давно были замечены спектроскопистами. Они сумели эмпирически вывести немало «правил отбора» спектральных линий. Теперь же теоретически объяснилось, в чем тут дело. Правда, пока лишь формально, но все же объяснилось. Эти неявки ожидавшихся линий в спектр - эти «нули интенсивности излучения - оказалось возможным точно предвидеть. А понадобился для этого всего только новый взгляд на старые вещи.
Так намеченная программа - программа поисков сходства между добропорядочной классикой, и квантовыми странностями - прошла тогда первое испытание.
Начало работы выдалось счастливым. Исследование заладилось. И сулило стать достаточно солидным, чтобы уместно было посвятить его памяти покойного Кристиансена. И оно, это посвящение старому учителю, звучало тем уместней, что очень кстати подчеркивало важность старых вещей для новой Великой физики века.
Хороший старт обещал победительный финиш. И тогда же, еще на рубеже 18-го года (точнее не скажешь, потому, что число на письме не проставлено). Бор написал Резерфорду:
«Будущее теории представляется мне сейчас в самом оптимистическом свете»
И добавил, любя доказательные подробности, что у него на руках уже первые гранки начальных страниц его исследования. Чувствуется завтрашний день атомной теории он связывал именно с тогдашними своими исканиями. И ощущал себя в Копенгагене, как в эпицентре нараставших квантовых потрясений эпохи.
Однако все выглядело так, точно не потрясений он хотел, а мира. (Совершенно в духе времени, уставшего от войны.)
Поселившись в граничной области атома, где квантовая прерывистость переходит в спокойную классическую непрерывность, его мысль весь восемнадцатый год прожила в этой обители исчезающе малых квантовых скачков. И там пыталась, не ссорясь с классикой, научиться правдоподобному описанию внутриатомных событий, классике чуждых. А потому, и языку ее не подвластных. Но откуда было одолжиться другим языком?
...Миссионер выезживается на архипелаге, и обнаруживает туземцы говорят на никому не известном наречии. Одно утешает чем ближе острова архипелага к берегам континента, тем ощутимей в туземной речи словарная общность с языком Большой земли. Заметив это, миссионер там, и поселяется - на прибрежных островках им руководит надежда вынести со временем из этой граничной области умение изъясняться на всем пространстве архипелага. И ему даже верится, что там-то он, и овладеет непонятной грамматикой островитян, и сумеет расшифровать их странные письмена.
Да, с такими далеко идущими надеждами искал, и Бор черты соответствия между классическим движением, и квантовыми прерывностями. Затем он, и поселился в области, где смыкаются микро, и макромиры.
ВТОРОЙ АССИСТЕНТ
Эти манипуляции с рядами Фурье и это скрупулезное внимание к деталям атомных спектров. - подробности, подробности. Но нет, ни ближним, ни дальним не стоило тревожиться, что он погрузился с головой в мелочное знание, где не раз бывали погребены крылатые замыслы.
Верно, конечно наука подробна, как жизнь. И вся в непролазных топях - как жизнь. И ничего не поделаешь, чтобы подняться на горную гряду, откуда далеко видно и природа обозрима, как целое, надо на своей одинокой заре терпеливо идти сквозь темные заросли формул, кривых и таблиц, не говоря уже о противоречиях, ошибках, и вздоре. Наука давно не делается иначе. Остались позади блаженные и простодушные времена натурфилософии, когда мнение о мире притворялось пониманием мира. И гармония целого приписывалась природе, а не извлекалась из головоломной картины ее бытия. И мудрость не призывала в свидетели точность. Однако он никогда не исчезал бесследно, этот дух натурфилософии. Он продолжал гнездиться в генетическом фонде человечества. И вспыхивал то тут, то там в деятельности больших исследователей. И с прежней наивностью внушал им благую заботу о целостном знании. И, может быть, его-то незримое присутствие делало великих великими.
Неизвестными путями забравшись в Данию, этот ген стал собственностью мальчика Нильса. И потому не грозила Бору опасность превратиться в жертву засасывающей трясины научной мелочности.
И начинающему Крамерсу это не грозило. Правда, по иной причине сквозь заросли подробностей вел его Бор. Оттого, между прочим, заря молодого голландца ни на час не была одинокой. Он уже в свой черед вел тогда за руку другого юнца - сверстника из Стокгольма - Оскара Клейна. Как в апостольские времена, Крамере становился учителем, сам еще пребывая в роли ученика. Так, и бывает только в апостольские времена - в молодости великих вероучений и на старте научных революций.
Появление юноши из Швеции вслед за юношей из Голландии означало, что школа Бора, как все живое, едва возникнув, принялась расти. И хотя он избегал громких слов «мои ученики», историческое дело уже делалось. И даже сразу проступили две определяющих черты его школы молодость, и интернациональность!
...Оскар Клейп познакомился с Крамерсом на полгода раньше, чем с Бором. Но Крамере был так влюбленно переполнен Бором, что соприкосновение с ним уже наполовину равнялось знакомству с самим копенгагенским профессором. И с атмосферой копенгагенских исканий. Это, и решило судьбу двадцатитрехлетнего стокгольмского лиценциата.
Он увидел, и услышал уверенно-красноречивого голландца в поворотные дни своей едва начавшейся жизни в науке ему предстояло решить, по, какому маршруту отправляться за чужеземной ученостью. А что отправляться надо, уверен был даже его шеф - классик физической химии Сванте Аррениус центры новых идей лежали за пределами Швеции. В это-то время Гендрик Антони Крамере объявился в Стокгольме, как вестник последних квантовых новостей.
Впрочем, строго говоря, не самых последних. Дело было в то предзимье 17-го года, когда Бор в одиночестве писал программное вступление к обещанным четырем статьям и уже зажил своею мыслью в граничной области атома. Рассказывать шведам об этом действительно последнем слове квантовой теории Крамере не мог. Просто по неведению. Но, и прочих новостей было предостаточно, чтобы после лекции Клейн, как он вспоминал, увязался на улице за копенгагенцем.
Тонколицый юноша с доверчивыми глазами, сын не очень ортодоксального стокгольмского раввина, слушавшего в молодости Бунзена, Гельмгольца и Кирхгофа, а в зрелости почитавшего сочинения Дарвина, Оскар Клейн был из тех мальчиков (не мальчишек), что выпрашивают мамин театральный бинокль, и улетают вечерами в звездное небо, а потом - даже по прошествии многих десятилетий - с прежним волнением вспоминают и первые свои исследовательские огорчения, и первое торжество.
«Мне не разрешали ночью надолго выходить из дома. - жаловался он, шестидесятивосьмилетний, историкам Куну и Хэйлброну, и потому прошло немало времени, прежде чем я сумел увидеть Сириус. Помню, это явилось для меня великим событием. Мы возвращались откуда-то из гостей, и в ту ночь я увидел на небе Сириус!»
Ему было шестнадцать, когда он с отроческим негодованием отложил в сторону книгу прежде любимого Вильгельма Оствальда увидел, что выдающийся химик, и плохой философ выводил невыводимое - математическую «формулу счастья»
После университета он - по воле Аррениуса - попробовал себя на экспериментаторском поприще. Ничего хорошего не получилось стеклянная аппаратура в Нобелевском институте оказалась слишком хрупкой для его неловких рук. Но свое призвание он открыл все-таки благодаря шефу, правда, довольно необычным образом на институтском обеде в честь одного ученого норвежца Сванте Аррениус почему-то представил его гостю, как юного «математического физика»! («А я, и не знал, что являюсь таковым.»)
А он являлся таковым. Но сразу видно в нем не было крамерсовской сознающей себя силы. Однако, что с того? Другими чертами своего склада он совершенно годился на роль ассистента Бора. И был просто создан для его школы.
...Этой мировой школе предстояло в будущем соединять на время или навсегда молодых людей, решительно несхожих по одаренности, характеру, и судьбам. Но одно в них бывало общим это детское стремление увидеть Сириус, хотя бы в старенький домашний бинокль. И эта способность, увидев Сириус, переживать совершившееся, как великое событие жизни. И вместе - эта врожденная неприязнь к пустословию научного романтизма с его псевдопоисками «формул счастья». Все они бывали настоящими исследователями, эти молодые люди из разных стран. Истинные гении или скромные трудяги, шумные, и молчаливые, самонадеянные, и робкие, бесцеремонные, и деликатные, веселые, и мечтательные, тщеславные, и самоотреченные, недотроги, и гуляки, остроумцы, и педанты, Моцарты или Сальери - все они были настоящими людьми науки. И главное - людьми настоящей науки. Той, что требует от своих избранников высшей трезвости мысли, а вместе - кружит им головы, и соблазняет на безрассудства.
Был обмен письмами между шведским лиценциатом, и датским профессором. А потом - весной 18-го года - их первое знакомство в тесноте рабочей комнатки на верхнем этаже Политехнического института. Еще шла война. «Маленькая лаборатория» еще пребывала только в воображении Бора. И он не мог сказать своему новому ученику-сотруднику «Вот это будет ваш стол, приступайте к делу!» Лишнего стола не было. Единственный занимал Крамере. Да, и, что мог бы там делать третий теоретик, если двое других работали вслух?!
Они работали тогда над второй из задуманных Бором статей. Исходная - фундаментально важная - появилась в «Трудах». Датской академии совсем недавно. Новичок из Швеции едва успел ознакомиться с нею. Участвовать в дискуссиях Крамерса, и Бора на равных он был еще не способен. И начальная пора его копенгагенской жизни запомнилась Оскару Клейну, как пора платоновского ученичества, когда взрослый человек переносится в дошкольные годы, и учится сложностям мира с голоса старших - без парт, и тетрадей.
Были долгие монологи Бора на копенгагенских улицах, ведущих на север - в Хеллеруп. к дому на Герсонсвей. Провожая Бора из института или из театра, а потом засиживаясь допоздна в его домашнем кабинете, Клейн учился походя не тому, что Зоммерфельд называл «техникой квантов», а квантовому мышлению. И часто сам не знал, учит ли его Бор новому подходу к вещам, или ищет у него понимания, сочувствия тревогам своей мысли. Это работала непреднамеренная педагогика доверия. Она превращала учеников в сообщников. И привязывала юношей к Бору навсегда. Клейн стал вторым, кого она привязала.
Были почти ежедневно разговоры с Крамерсом за столиком студенческого кафетерия где на обед хватало полкроны, а бумажные салфетки служили грифельной доской. На этих салфетках Крамере учил своего сверстника уже не философии, а технике квантов, и блистательно демонстрировал новые идеи в действии.
«Он учил меня тому, чему сам научился у Бора, давая мне каждый раз ровно столько, сколько я мог переварить.»
А переваривать надо было вместе с ясной математикой темную физику боровского Принципа соответствия - соответствия между классическим движением, и излучением квантов. Переваривать надо было логически не очень съедобные квантовые плоды, что выращивали копенгагенцы на полуклассической почве атомной периферии, где скачки электронов делались неприметно малыми.
Крамере показывал, как он возделывал эту почву в своей докторской диссертации. И в зимних сумерках. - под электрическим небом студенческой столовой - прорисовывалась на бумажных салфетках мозаика гармонических волн Фурье для тонкой структуры водородного спектра. В один из дней той первой послевоенной зимы худенькая фигура стокгольмского лиценциата изогнулась над столиком вопросительно, и доверчивые глаза уставились на очередную исчерченную салфетку недоверчиво Крамере, решившись в этот день истратить на обед целую крону, громко растолковывал, что интенсивности излучения получаются верно даже для первых четырех линий спектральной серии Бальмера.
Для первых четырех? Для красной, зеленой, синей, и фиолетовой?.. Было от чего изогнуться вопросительным знаком!
Ведь эти линии испускались вовсе не из граничной области атомов. Напротив, из их глубин - оттуда, где скачки с орбиты на орбиту происходили невдалеке от ядра, и воплощенная в них антиклассическая прерывистость не только не сходила на нет, но просто зияла. Получалось, что идея Бора работала там, где логически не имела никаких шансов, и прав на успех. Вслед за Бором, не строя абсолютно никаких предположений о механизме квантовых скачков, Крамере сумел оценить их вероятность с помощью классического описания движения. Иначе говоря, вопреки здравому физическому смыслу!
Что мог подумать новичок? Видимо, эти копенгагенцы, каким-то образом знали про странности в устройстве материи больше, чем можно было понять.
Позднее, в 23-м году, ко многим крылатым выражениям Зоммерфельда прибавились слова о «волшебной палочке Принципа соответствия Бора». В зимний денек 19-го года молодой Оскар Клейн увидел в копенгагенском кафетерии один из первых взмахов этой палочки.
Не без робости он представил себе, что, и ему, не такому сильному, как голландец, тоже придется со временем ассистировать Бору. А случиться этому предстояло совсем скоро.
ПРИМИРЕНИЯ НЕ БУДЕТ
Была первая послевоенная весна, и опустевшая рабочая комнатка на Сольвгаде.
Бор, и Крамере уехали в Голландию. Старший сопровождал младшего на защиту диссертации. И не испытывал ни малейших опасений за исход дела редко кто стоял на земле так прочно, как двадцатипятилетний Крамере (ноги расставлены широко, и ладно). Оппоненты получили на руки оттиски из мартовского выпуска «Трудов». Датской академии диссертация успела уже стать апробированной статьей. Словом, за своего ученика Бор действительно мог быть спокоен. Вот, когда бы, и его собственные идеи стояли на земле столь же прочно!
Так сошлось, что крамерсовская защита совпала с апрельским съездом голландских естествоиспытателей, и врачей. Бора пригласили выступить с обзорным сообщением. Его программа, и его оптимизм тоже проходили защиту довольно того, что в зале сидел незыблемо классический Лоренц.
Но ничего не произошло. Его выслушали с молчаливым вниманием. Вероятно, нелегко усваивалось сказанное им. Однажды он заметил в оправдание головоломного стиля знаменитого Джошуа В. Гиббса:
«Когда человек в совершенстве овладевает предметом, он начинает писать так, что едва ли кто-нибудь другой сможет его понять»
Это было прямо противоположно общепринятому убеждению, но точно отражало его выстраданный опыт.
Может быть, Лоренц воспринял Принцип соответствия, и в самом деле, как объявление перемирия между квантовой теорией, и классической механикой? И, естественно, испытал удовольствие от такого поворота событий. Новое оружие датчанина показалось безопасным, скорее белым флагом, чем оружием квантовая теория атома сдавалась на милость классических методов. Нельзя было бы понять происходящее более опрометчиво. Но, кажется, так оно, и случилось. И потому никто на Бора в Лейдене не напал. (Не то, что в Бирмингеме или Геттингене шесть лет назад!)
А сам Бор уже глубоко сознавал, что мира с классикой даже Принцип соответствия не принесет. Конечно, еще многое разъяснится, как бы на классический лад. Однако не более чем «как бы». Квантовые скачки не перестанут быть внутриатомной реальностью. И старинный девиз классической механики - «Природа никогда не делает скачков» - все равно придется забыть. Уже ясно ресурсы классического описания движений в атоме ограниченны. Принцип соответствия закидывает ведра в этот колодец. Рано или поздно начнет просвечивать дно. А когда оно совсем обнажится, что будет тогда? Чтобы добраться до глубинных истоков атомной механики, придется это дно пробивать. Нового потрясения самих основ физического миропонимания избежать не удастся.
И когда придет буря, все припомнят, а ведь она зрела исподволь, и Принцип соответствия, как барометр, постоянно ее предвещал. Все припомнят была на шкале этого барометра грозная отметка, и в каждом исследовании стрелка обязательно до нее доходила - там стояло слово «ВЕРОЯТНОСТЬ» Все припомнят, что ничего грозного за этим словом сначала не почувствовали. Ну, разумеется, надо же было выяснять вероятности разных квантовых скачков к ним, к этим переходам из одного устойчивого состояния в другое, сводилась деятельная жизнь атома. Скрытая, и непонятная. Однако слово-то было хорошо знакомо по старой статистической физике. И не страшило. Равно, как, и другое слово, за ним стоявшее «СЛУЧАЙ» Что тут могло быть нового для физика?!
Но Бор уже знал, что тут не все так просто, как видится. Отлично знал, хотя тоже еще не представлял себе до конца, к чему все клонится. В первой же статье о Принципе соответствия он уже затуманил ясное понятие ВЕРОЯТНОСТИ неясным прилагательным - СПОНТАННАЯ.
Спонтанная вероятность. Так, стало быть, внутренне присущая квантовым скачкам? Заложенная в самой их природе? Данная им от века? Каждому - своя, и ни от чего не зависящая? Ничем не мотивированная? Выражающая чистую случайность, без всяких причинных подоплек?
С такой случайностью, и такой вероятностью физических событий естествознание никогда еще не имело дела.
Эйнштейн такого определения не вводил. Ни в одной из своих двух статей 1916 - 1917 годов, так обрадовавших Бора, где впервые речь зашла о вероятностях квантовых переходов, Эйнштейн о спонтанности не заговорил. И не мог заговорить! Для этого ему нужно было бы изменить своей философии мироздания.
В сущности, вот, когда возникла длившаяся десятилетия его драматическая дискуссия с Бором. Да, она возникла еще в ту пору, почти за десять лет до появления квантовой механики. Эйнштейн прямо посетовал в конце своей второй статьи, что вместе с вероятностями в теорию внутриатомных событий проникает случай, и этому случаю предоставляются слишком большие права в делах природы. Он сразу объявил это недостатком своей собственной теории. И понадеялся на избавление от него. Уже тогда он готов был произнести свою грустно-философическую шутку «Я не верю, что господь бог играет в кости!» И не произнес ее только потому, что тогда квантовая физика этого еще не утверждала. Шутка пришла ему на ум в 40-х годах, и была антиборовской.
Но, как непредсказуема драма идей то, что ему мнилось слабостью его теории, породило силу, против которой он уже ничего не смог поделать!..
А термин «спонтанное излучение» (и, следовательно, «спонтанная вероятность») приписали Эйнштейну переводчики его статей облегчая себе задачу, а читателям чтение, они ввели в старые тексты более позднее, только со временем устоявшееся выражение. Принадлежало оно Бору.
...Размышлять об этих вещах было трудно. Тут где-то кончалась физика. И начиналась непроглядная тьма. И единственное, что светилось в этой тьме неведения, были спектральные линии. Только они своей яркостью - своими относительными интенсивностями - вели неподкупный рассказ об этой спонтанной вероятности квантовых переходов в атомах. И Бору больше всего хотелось слушать этот рассказ, молча, терпеливо обдумывая услышанное. (Как он умел.)
Был в весеннем Лейдене час, когда участникам съезда голландских естественников показывали одну из местных физических лабораторий. Современную, достойную лицезрения. Среди прочего гостям демонстрировали микрофотометр Молля - высокочувствительный прибор для измерения интенсивности спектральных линий. Бор смотрел во все глаза. И острота его молчаливого интереса к этому прибору удивила хозяев обычно несвойственная теоретикам, она показалась непонятной. Да и разве не теснились вокруг другие лабораторные достопримечательности?
Экскурсия продолжалась. И внезапно кто-то хватился исчез Бор, а он был из высоких гостей. Пустились на поиски. Его обнаружили в безлюдной комнате по соседству. Он шагал от стены к стене (в клетке одиночества своих мыслей). «Я не знаю, о чем размышлял он.» - признался в беседе с историками утрехтский физик Бюргер, ставший тогда свидетелем этой сцены.
Потом визитеры задавали вопросы. И снова всех удивил Бор. Он негромко спросил - «Сколько стоит этот прибор?» (И надежда на сходную цену была в его голосе.) И более ни о чем не осведомился. А от него ожидали иного любопытства. Поэтому случившееся запомнилось. И никто не подумал, что вопрос задавал все-таки не просто директор строящейся лаборатории, стесненный в средствах, и озабоченный ее оснащением. Вопрос задавал теоретик-мыслитель, стесненный философскими трудностями, и озабоченный загадочностью миропорядка.
Но один лейденец это понял бы наверняка, присутствуй он тогда на экскурсии Пауль Эренфест.
НАЧАЛО НОВОЙ ДРУЖБЫ
Они познакомились на защите Крамерса, их общего ученика. И с первого рукопожатия, когда Бор, улыбаясь, представился «Бор.», а Эренфест, улыбаясь, представился «Эренфест.», и оба, высокий, и маленький (копенгагенец - с медлительной пристальностью, лейденец - с цепкой живостью), всмотрелись друг в друга, сопоставляя впечатление с ожиданием, и оба одновременно подумали, что, в сущности, они издавна знакомы, - с того первого рукопожатия волна взаимного доверия связала их на всю остальную жизнь.
Вечером или на следующий день Бор уже был домашним гостем Эренфеста. Чуть стеснительно, точно не сознавая своего возрастного превосходства, ребячески общался с его детьми, скучая по собственным малышам - Кристиану, и Хансу. Слушал музыкальный дуэт Эренфеста с Крамерсом - рояль и виолончель, и вспоминал, как нравилось Маргарет, когда после дневных трудов Крамере принимался играть у них в Хеллерупе. И в несчетный раз убеждался, что музыка, наверное, по причине своей бессловесности - прекраснейшее отдохновение для ума, переполненного словами. Наблюдал, не удивляясь, что никого в этом доме - ни веселого хозяина, ни его разговорчивой жены, ни ребят - не коснулась послевоенная удрученность скудостью жизни.
А у Эренфестов эта скудость была вся на виду. В просторном доме недоставало подобающей обстановки. Единственные часы висели в столовой на голой стене, и это были карманные часы профессора. Глаз постороннего сразу ощущал, что-то тут не так, и неспроста. Стены без обоев. Окна без гардин. Профессорская квартира? А может быть, временное пристанище людей в пути? Меж тем прекрасный особняк был приобретен за немалые деньги. И надолго положение Эренфеста, приглашенного на роль преемника Лоренца, обещало быть прочным. Тут чувствовался, какой-то просчет. Джеймс Франк, не раз гостивший у Эренфестов, и озадаченный виденным, рассказывал, что этот зримо осязаемый просчет не был арифметическим. В судьбу австрийского теоретика, и его русской жены, осевших перед войной на голландской земле, вмешалась история революция в России. Слывшая хорошим математиком, Татьяна Эренфест - киевлянка из преуспевающей семьи - разом лишилась прежде не иссякавшего источника средств. И дом без обстановки только продолжал напоминать об утраченных иллюзиях.
«На доходы профессора, которые были в Голландии не слишком высоки, Эренфест не мог бы ни купить такого дома, ни содержать его на должном уровне.»
Но оттого, что удар нанесла История с большой буквы, никто в этом доме не горевал об утраченном. Скорее, напротив, хозяева даже излучали непритворное удовлетворение оттого, что неправедные иллюзии рухнули. Джеймс Франк уверял:
«Татьяна Эренфест была в это время настроена крайне про-коммунистически. Не думаю, чтобы, и Пауль заходил так далеко. Однако иные из тамошних консерваторов могли бы называть его розовым, если не красным. И это было бы, безусловно, верно, потому, что в нем жило сильное чувство социальной справедливости.»
Так, побеленные белой известью стены, и зияющие оконные проемы свидетельствовали в этом доме не только о скудости жизни, по и выражали независимость от стандартов благополучия, и добропорядочности.
«Дети Эренфестов, одаренные ребята, рисовали на белых стенах картины и с гордостью показывали их. А в комнате для гостей целая стена была покрыта именами тех, кто там бывал. (Впрочем, эта традиция возникла позже; в середине 20-х годов. - Д. Д.) И я совершенно понимаю Эйнштейна, который писал, что чувствовал себя там счастливым. В нем тоже жила эта независимость, и ему неважно было, есть ли в доме нормальные хорошие кресла или нет. Он мог быть там самим собой, а этого-то он и хотел.»
И Бор хотел этого - быть самим собой. И уже знал, что будет сюда еще не раз возвращаться. И жалел, что Маргарет не смогла из-за детей поехать в Голландию вместе с ним ей тоже пришлись бы по душе эти новые друзья, и этот необычный дом, полный счастливой естественности.
(Кто посмел бы напророчить тогда, что через четырнадцать лет все и навсегда омрачится здесь непоправимой бедой - внезапным, но долго, и неотвратимо созревавшим самоубийством Пауля Эренфеста, общительнейшего из людей!)
О чем они разговаривали тогда, оставаясь вдвоем? Если без подробностей, - о том, что порознь томило обоих. Как-то Бор сказал про классику «Восхитительно гармоничный круг представлений». А когда можно будет и о квантовой физике произнести по праву нечто подобное? Вот об этом, и говорили.
И снова Лейден 19-го года, как, и Копенгаген той поры, не дал Бору поводов для сетований на одиночество в науке. Все видится так если там, и закрылась однажды эта клетка, то разве, что на считанные часы.
...Из Лейдена он уехал один - без Крамерса.
Послевоенное поветрие - пожить бы в родных местах! - охватило всех и недавних солдат, и штатских. Новый доктор философии Лейденского университета решил после защиты отдохнуть дома. Он сполна это заслужил. Условились продолжить летом прерванную работу над циклом из четырех статей.
Шел уже июнь, и Бор с малышами, и Маргарет переехал в арендованный на лето сельский домик среди тисвильских лесов и дюн на северо-западе Зеландии, когда пришло огорчительное письмо из Лейдена молодой, и сильный Крамере тяжело заболел. Кажется, тиф!.. Скоро стало очевидно, что он выведен из строя надолго.
Это мир еще расплачивался за войну, вновь и вновь узнавая, как она мстительна. Ее живучие спутники - эпидемии, инфляции, кризисы - катились по Европе, не разбирая государственных границ, и не отличая правых от виноватых.
Вот так рабочее место Крамерса за письменным столом Бора неожиданно скоро пришлось занять Оскару Клейну.
«Я отправился в Тисвиль и оставался там в течение всего лета 19-го года. Бор диктовал мне каждый день. Он снял еще одну комнату на ферме неподалеку от семьи. Это был маленький красный домик. Очень славный. Когда кот расхаживал по крыше, раздавался шум, похожий на раскаты грома. Но в остальном это было прекрасное место для работы.»
И они работали. Ничего другого, и не происходило. Тихие шаги. Диктовка по-английски. Споры по-датски. И снова диктовка по-английски.
И раскаты грома над головой.
Лето. Дюны - зеленое с желтизной. Вереск, и сосны. Тридцатилетняя женщина с двумя мальчиками на лесной поляне. Красный дом в отдалении. И кот на крыше. Жизнь в стороне от истории. А может быть, все-таки в ней самой?
«2, 8, 8, 18, 18, 32.»
Через сорок три года в беседе с историка-I ми Оскар Клейн уже не мог припомнить с ручательством за точность, какую из своих тогдашних статей выхаживал в красном домике Бор. Память подсказывала разные варианты.
Но, пожалуй, всего вероятней, что был в работе обширный доклад, который он согласился прочитать в Берлине весною будущего 1920 года. (Немецкое физическое общество почтительнейше выразило желание послушать Бора в своих стенах).
Доклад сводился к изложению уже достигнутых успехов Принципа соответствия. И потому существенней, пожалуй, другое в том летнем домике в попутных разговорах с новым ассистентом стала исподволь прорисовываться новая, многообещающая идея Бора. Оскару Клейну запомнилось, и он повторил это историкам дважды, - как Бор принимался вдруг обсуждать строение атомов лития и натрия.
С чего бы? Почему после абстракций математики - конкретности химии?
Не оттого ли, что теперь за его рабочим столом сидел не сверхматематичный голландец, а шведский лиценциат из физико-химической школы Аррениуса? Хотя Клейн тоже был «математическим физиком», тень химии еще сопутствовала ему неотступно. Он привез с собою незаконченное исследование об электролитах - растворах, проводящих ток. (По этому родимому пятну сразу узнавалась школа Аррениуса, как по альфа-частицам - школа Резерфорда.) Бор прочитал работу Клейна в первые дни их знакомства. И, к немалому удивлению юнца, тогда же заговорил о ней так, точно всю предыдущую жизнь только, и делал, что занимался статистическими закономерностями в электролитических процессах! Как в свое время радиохимик Хевеши, а потом спектроскопист Хансен, Оскар Клейн изумился открывшемуся мгновенное понимание заменяло Бору подробную осведомленность. И оттого, что Клейн продолжал свое исследование, тень химии поселилась вместе с ним в красном тисвильском домике.
Однако тень есть тень она весит немного. А истинно весомым в той маленькой истории с литием, и натрием было, разумеется, нечто иное. Не вдруг возник у Бора интерес к строению их атомов.
...Еще семь лет назад - в Памятной записке Резерфорду - он запрограммировал квантовое истолкование Периодического закона Менделеева. Ему все тогда казалось легкодостижимым - «через несколько недель». Думалось успех дежурит за порогом. Только бы переступить порог - найти объяснение устойчивости планетарного атома!
В придуманных для этого стабильных электронных кольцах ему чудилась скрытой, и периодическая повторяемость химических свойств элементов. Он ведь и число уже называл в каждом электронном кольце не больше семи электронов - от нуля до семи. Итого - восемь вакансий. А химия атома зависела, по его мысли, от самого внешнего кольца. Естественно, когда атомы образуют молекулы, они соприкасаются, и взаимодействуют этими внешними кольцами. И потому у всех элементов с одинаковым набором электронов в наружном кольце - похожая химия. И периодичность в такой схеме действительно появлялась сама собой у каждого элемента должен был через восемь клеточек менделеевской таблицы обнаруживаться близнец по поведению.
За семь лет принцип этой схемы не устарел. Но все семь лет Бор прекрасно знал, что сама схема слишком уж схематична. Довольно было взглянуть на таблицу Менделеева, чтобы увидеть периодическая повторяемость химических свойств сложней, и капризней - числом 8 ее не исчерпать. Гармония периодического закона оставалась неразгаданной. В ней, каким-то образом участвовали, и другие числа - 2, 18, 32. Ясно, что тут природа вела, какую-то квантовую игру. Однако по более сложным правилам, чем казалось сначала.
В минувшие годы уже многие пытались эти правила раскрыть. Успешней и раньше других - мюнхенец Вальтер Коссель. Бору нравились его работы. Он называл их очень важными, и весьма интересными. И ему приятно было, что начало исканиям Косселя дал он та же квантовая модель планетарного атома, те же устойчивые электронные кольца, та же решающая роль внешнего кольца. Только одно не удовлетворяло его, и позднее он написал об этом
«Коссель не входил в рассмотрение глубоких причин разделения электронов на группы.»
Подобно всему, исходившему из школы Зоммерфельда, работы мюнхенца были отмечены блестящей «техникой квантов», и отсутствием «философии квантов»
(Если появится, когда-нибудь научная дисциплина ФИЗИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, - как давно уже есть на свете физическая химия или математическая физика, - ее основоположниками в XX веке будут признаны Бор и Эйнштейн. Или Эйнштейн, и Бор.)
Для Косселя устойчивые группы атомных электронов были данностью природы. А Бору нужно было понять, как они возникают.
Он уже не верил тому, что сам утверждал в наивные дни Памятной записки будто электроны в каждом кольце, как в хороводе, вращаются все вместе по одной орбите. Когда бы так, рассуждал он теперь, все электроны кольца должны были бы одновременно сесть на эту орбиту и равномерно распределиться по ней. Такая одновременность была бы редкостным чудом. Да еще, и пренеприятнейшим связанные друг с другом жестким условием коллективной устойчивости вращения, эти «окольцованные» электроны лишились бы права свободных перескоков на иные орбиты.
Само представление о кольцах потеряло для Бора прежнюю привлекательность. Да оно и перестало быть нужным, замечательно оправдавшийся постулат стационарных состояний разрешал каждому электрону устойчиво двигаться вокруг ядра по индивидуальной орбите. Лишь бы отвечала эта орбита, какому-нибудь дозволенному уровню энергии атома. А каждая ступень боровской лестницы таких уровней была, как открыл Зоммерфельд, в свой черед маленькой лесенкой разрешенных устойчивых состояний. И каждой лесенке соответствовала группа близких друг к другу орбит. А группе орбит - группа электронов, по ним летящих.
Несостоятельный образ колец заменился более достоверной картиной электронный рой по мере усложнения атомов - от водорода (с одним электроном) до урана (с девяносто двумя) - создавался наслоением все новых групп электронов, независимых, но тесно соседствующих своими орбитами. И формирование всякого атома стало представляться Бору постепенным процессом ядро связывало случайно повстречавшиеся электроны поодиночке - в порядке их неосторожного появления в околоядерном пространстве, где для них кончалась вольная жизнь, и начиналось квантовое подданство.
Вся паутина математически возможных орбит теперь рисовалась ему в виде призрачного проекта будущего атома. Лестница уровней энергии превратилась в последовательность вакантных мест для залетных электронов. Она обернулась для них, как бы иерархической лестницей формируя атом, они могли садиться один за другим только на свободные ступеньки – снизу-вверх. И если нижние уровни оказывались уже заселенными ранее прибывшими счастливчиками (пли, напротив, неудачниками - они ведь теряли прежнюю свободу!), но вым электронам оставалось довольствоваться орбитами, более удаленными от ядра. И когда в очередной группе близко соседствующих орбит исчерпывались все вакансии, начиналось заполнение следующей возможной группы. И это продолжалось до тех пор, пока общее число электронов не становилось равным заряду ядра, и на свет не рождался готовенький нейтральный атом.
Можно бы сказать, что электроны расселялись в атоме по группам, как новоселы в доме по этажам. Вот только странным был этот дом - сродни фантастическим замыслам тогдашних архитекторов-конструктивистов. Мексиканская уступчатая пирамида, перевернутая с основания на вершину. Дом, расходящийся кверху цоколь - ядро, в первом этаже - 2 квартиры, во втором - 8, и в третьем - 8, в четвертом - 18 квартир и в пятом - 18, а в шестом - 32. Так объединялись элементы в периоды, судя по таблице Менделеева. И, следовательно, точно так же должны были объединяться в группы атомные электроны ведь их число всякий раз задавалось именно номером элемента в периодической системе.
Нужно было в конце концов понять, отчего природа строила атомы по такому причудливо-конструктивистскому проекту. За причудливостью угадывалась гармоническая четкость. (Как, и во всем лучшем, что создавал архитектурный конструктивизм.)
Многие физики уже придумывали чисто формальные геометрические схемы в оправдание природы. Зоммерфельд объяснял число 8 симметрией куба почему бы электронам не сидеть на восьми вершинах этой превосходной пространственной фигуры? А известный американский исследователь Ленгмюр уже склонялся к мысли, позже высказанной им вслух, что в строении атома принимают участие некие неизвестные силы только этим можно оправдать странности атомных конструкций. Ни тем, ни другим путем - ни формальным, ни полумистическим, - мысль Бора удовлетвориться не могла. По прошествии двух лет, когда идеи, начавшие зреть в красном* домике, выросли в разветвленную теорию и 18 октября 1921 года стали предметом его нашумевшего доклада в Физическом обществе Дании, Бор еще непреклонней, чем зоммерфельдовскую геометрию, отверг ленгмюровскую попытку призвать на помощь, какие-то доселе неведомые силовые таинства.
«Такой прием, - сказал Бор, - принципиально чужд стремлению истолковать своеобразие элементов на базе общих законов, управляющих взаимодействиями частиц в любом атоме»
И прибавил «Эти законы - постулаты квантовой теории»
И улыбнулся «Это стремление отнюдь не безнадежно»
Еще в красном домике - летом 1919 года - он знал, что оно не безнадежно. Об этом-то, и говорили запомнившиеся Оскару Клейну его предположительные рассказы о процессе образования атомов лития и натрия.
Продолжение следует.