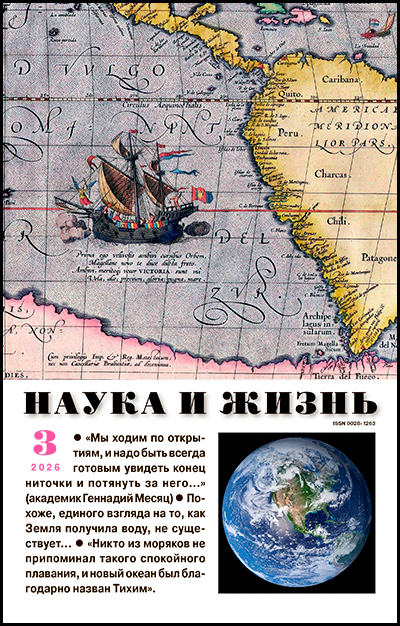и ушли, за солдатом - солдат...
До свидания, мальчики! Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Булат Окуджава
Уже не раз по ночам ревели сирены, и все спускались в бомбоубежище, спешно устроенное в подвале дома. Уже были вырыты щели в поле, за домами, и на чердаке поставлены ящики с песком. Однажды, возвращаясь из центра, мама из-за объявленной тревоги застряла в метро: остановились поезда, и люди пешком шли в туннеле по рельсам. Настоящих налетов пока еще не было - немцы до нас не долетали.
Москву эвакуировали. Мы уехали 15 июля. Из нашего военного городка отправляли далеко, за Урал. Но мы поехали ближе - в Иваново, где жила многочисленная родня и легче прожить без отца, оставшегося на службе. С 22 июня мы его почти не видели.
Уезжали втроем: мама, сестра Ира и я, только что окончивший первый класс, с подарком отца - фотоаппаратом "Фотокор" через плечо.
Иваново встретил жарой, пылью, булыжными мостовыми. Дед и бабушка были хмурыми - ни одного письма с начала войны от Саши, маминого младшего брата, веселого, заводного, второй год как призванного в армию (его часть стояла на самой границе, в Гродно). Где он, что с ним? Этот вопрос мучил нас всю войну.
Мой дед Николай Павлович работал механиком на ткацкой фабрике БДМ (Большая Дмитровская мануфактура), известной еще с дореволюционной поры. Высокий, костлявый, с желтым от хины лицом, в черной кожаной куртке, он был неразговорчив и вечно чем-то озабочен. Он дал мне для игр Сашины шахматы, старую подшивку журнала "Нива" и ушел к себе пить чай. Бабушка, которую мы звали просто Таня (на 20 лет моложе деда), - полная ему противоположность - приветливая, разговорчивая, добрая и отзывчивая. Мама была деятельной, неунывающей - настоящая жена командира Красной армии. Она с первых дней принялась шить армейское белье, чехлы для фляг и прочую военную амуницию, а мне иногда доверяла пришивать ко всему этому пуговицы. Ире поручали более тонкую работу - она обметывала петли на белье. Мама вошла в совет женщин при Доме культуры, мы часто проводили там время и получали бесплатные билеты в театр и цирк.
Утром у магазина собиралась окающая толпа дядек и теток, которая, страшно топоча по деревянным доскам, врывалась внутрь, как только открывались двери, и выстраивалась в длинную терпеливую очередь за тем немногим, что еще оставалось на прилавках. Скоро не осталось ничего, и ввели карточки. Они были разного цвета. Наши с Ирой - зеленые, "иждивенческие", у мамы желтая - для служащих, дед и Таня получили коричневые - "рабочие", по которым отпускалось больше хлеба и других продуктов. Но меня эта бухгалтерия тогда не интересовала: еды было в достатке, очень вкусную запеченную в чугунке картошку готовила Таня, а в городе доводилось даже встретить довоенную мороженщицу и за 20 копеек отхватить сладкий морозный кругляшок.
Жизнь казалась интересной. Я быстро перезнакомился с мальчишками нашего двора. Мы гоняли пыльный мяч, забивая его вместо ворот под лавку, и моя московская юркость была по достоинству оценена. Залезали через забор на территорию опустевшего детского сада, хотя туда, через дорогу, мать запрещала уходить, но ей было не до меня. Я прибегал домой, чтобы что-нибудь ухватить, и снова уносился - на пустой стадион "Основа", где можно было через стенку перелезть в запертую душевую и брызгаться теплой водой (дядька в тяжелых сапогах подкарауливал нас, гонялся по узким коридорам и долго нехорошо ругался вслед). Ходили в Дом пионеров к дяде Володе, который работал там киномехаником и мог запросто пустить на сеанс и дать посмотреть на свет обрезки пленок мировых комедий. Можно было даже, если с нами шел кто-то из старших парней, отпроситься на речку Талку - купаться голышом и разглядывать пиявок, извивающихся в прозрачной воде или висящих на листьях осоки. Это жаркое лето 41-го было интереснее и привольнее всех предыдущих, проведенных в пионерлагерях.
Случались, конечно, стычки с чужими, но наши ребята меня в обиду не давали. Какие-то сопливые мальчишки издали кричали обидное "москвич, в ж... кирпич" и сразу же бросались наутек, как только им показывали кулак.
Но вольное лето кончилось, пришла осенняя учебная пора, а с нею, как сырой туман, стал наползать голод. Уже не запеченная в чугунке на сметане картошка, а картофельные очистки, из которых мать пекла оладьи, казались вожделенным блюдом.
В ту осень я переменял много школ. Не успею запомнить путь к одной и узнать своих соклассников, как она закрывалась и учеников рассылали по другим школам. Школы превращались в госпиталя. Их становилось все больше, им отдавали лучшие в городе здания, а нас, школьников, переводили в тесные подсобные помещения. Зимой я учился уже в старых конюшнях бывшего горелинского училища. Было темно, холодно и дымно, но мы оставались такими же живыми и шумными, как и в светлых довоенных классах.
Помню, осенью проходила через Иваново дивизия, только что снятая с фронта, идущая на отдых. В первый раз увидел я солдат в полинялых гимнастерках и каких-то нищенских обмотках (в кинофильмах они всегда бывали в сапогах с блестящими голенищами), черных от загара и пыли, тяжело шагавших по булыжной мостовой. Усталые лошади тянули пушки, и до чего же маленькими были эти пушечки, прямо как игрушечные. Солдаты шли молча и так же молча, жалостливо смотрела на них толпа. Эта боевая дивизия с изможденными людьми, заморенными лошадьми и такими нестрашными орудиями была единственной реальной вестью с той страшной войны, которая громыхала вдалеке и подходила все ближе и ближе. Позже, уже к зиме, появились возле нашего двора команды новобранцев, обучавшихся военному делу. За ними интересно было наблюдать, у них можно было кое-что перенять для собственных военных игр. Они шагали группами, разворачивались по команде и проделывали другие строевые маневры, а иногда бежали с какими-то длинными трубами (потом я узнал, что это были противотанковые ружья) и прятались с ними в кустах, высматривая танки невидимого противника. Вот это было здорово! Один раз я даже видел у них настоящий пулемет - очень похожий на тот, из которого строчил Петька на тачанке.
Иваново не бомбили. Говорили, что были налеты на Комсомольск, в 30 км от Иваново, где немцы пытались вывести из строя электростанцию, питавшую все ивановские заводы, но разбомбили только ее фанерный макет, сделанный на болоте. Такая военная хитрость привела всю ребятню в восторг и, обрастая фантастическими подробностями, надолго стала темой наших разговоров и игр. Сводки Совинформбюро, передававшиеся по радио, не давали такой пищи и совершенно не захватывали нас. То ли дело немецкий самолет-разведчик, однажды летавший над городом на большой высоте, так что по нему даже не стреляли. Какой-то знаток сказал, что это "рама" - "Фокке-Вульф", а кто-то даже разглядел кресты на крыльях. Люди, задрав головы, стояли на улице, наблюдая "гостя", и никому не приходила в голову мысль, что от него может исходить какая-либо угроза. Относились, как к забойному цирковому номеру (ивановский цирк в это время был главным нашим развлечени ем).
Война вторгалась все настойчивей. В нашей коммунальной квартире на втором этаже зубковского двора жили четыре семьи: было много молодежи, и зеленой, как я, и постарше - почти призывного возраста. По вечерам собирались на кухне и пели песни под баян. Играл и довольно хорошо пел Витька Чернов, которому через пару месяцев должна была прийти повестка в военкомат. Как сейчас вижу эти осенние посиделки. Я залезал на стремянку, поближе к единственной лампочке, тускло освещавшей кухню, откуда было видно всех. Разговаривали, смеялись, крутили пластинки на патефоне, привезенном из Москвы, пели, иногда в одиночку, чаще хором. Пели довоенные песни, романсы и народные русские песни, но любимой - символом и знаменем 41-го года был "Синий платочек". Под эту песню выходили из комнат наши матери, выползали из своих нор старики - она объединяла всех, ее неброский текст и скромная милая мелодия вполне соответствовали неясному тревожному настроению, охватившему всех в ту грозную осень. Мы не знали, как долго продлится война. Мы не ведали, какой она будет жестокой и сколько унесет жизней, в том числе и тех, кто сидел сейчас здесь. "Вставай, страна огромная", "Темная ночь" и другие великие патриотические песни, с которыми страна придет к победе, появятся позднее. А сейчас этот "скромный платочек" давал отдых наболевшей душе и вселял какую-то надежду. Думалось, что весь этот ужас скоро окончится и мы вернемся к прежней жизни. Возвратится Саша, а мы уедем к себе в Москву, в нашу светлую квартиру.
Но вот с посиделок стали исчезать один за другим взрослые ребята, оставляя места нам, пацанам, готовым бежать за ними следом. Поступил в военное училище Витька Чернов, был призван в армию Санька Щанов, раненный потом под Киевом. Об одном из новобранцев нашего двора я храню особую память, хоть и забыл его фамилию. Звали его Витек, и жил он не в нашей квартире. Уходя на фронт, Витек отдал мне свою хоккейную клюшку с наставлением беречь до его возвращения. Он не вернулся и погиб, даже не дойдя до передовой: их часть в ночном переходе напоролась на минное поле, чье уж не знаю, где полегло много ребят. Клюшку я долго берег, но на каком-то забытом перекрестке детства она пропала.
Декабрь 41-го был очень холодным и многоснежным. Никогда больше не видел я таких сугробов во дворе и по дороге в школу, никогда не страдал так от холода, просыпаясь утром в нетопленом коридоре. Я спал вместе с мамой на одной кровати. От холода распухли пальцы и трудно стало писать. И все же готовил домашние уроки на подоконнике в комнате деда, где раз в день топили голландскую печь, ежедневно ходил по узким заснеженным тропкам в школу и там получал на завтрак маленький кусок черного хлеба с мазком повидла, вкуснее которого я ничего в жизни не пробовал.
О том, что немцы разбиты под Москвой и наступил перелом в войне, мы узнали задолго до официального объявления по радио. А было это так. Сначала отец прислал телеграмму, чтобы мы собрались и немедленно уехали в Куйбышев. Это означало, что дела на фронте шли плохо и надо эвакуироваться дальше на восток. Купили билет на поезд, упаковали вещи, за нами должна была прийти машина, чтобы везти на вокзал. Когда мы, уже одетые, сидели на чемоданах, пришла новая телеграмма: "Не выезжать". Мама все поняла сразу - Москву не сдадут, и мы остались, хотя родные и соседи, напуганные последними сводками, советовали все же уезжать. Мы не уехали и, возможно, этим спасли себе жизнь: многие поезда в то время подвергались жестокой бомбардиров ке. Позже узнали, что был разбит и тот поезд, в котором мы собирались ехать.
В сообщениях по радио замелькали знакомые подмосковные города и веси, отбиваемые теперь у врага, - Истра, Можайск, Волоколамск, Клин, Дмитров, Малоярославец. Как мы радовались каждой новой нашей победе! С каким нетерпением ждали очередной передачи! Какими любимыми стали позывные Москвы и торжественные слова "От советского Информбюро", произносимые мощным голосом Левитана. Я тогда повесил на стенке карту, на которой красными флажками на булавках отмечал продвижение наших войск все дальше на запад.
Декабрьская победа под Москвой была тем долгожданным событием, которое вдохнуло новые силы - и в армии, и здесь, в тылу. Пусть холодно, пусть голодно, но мы все-таки не отдали Москвы и Ленинграда, Красная армия разбила фашистских гадов, и они от нас еще получат. Как бы ни было трудно потом, после декабря 41-го, все уже твердо знали, что окончательная победа будет за нами. Враг обязательно будет разбит, и у каждого будет вдоволь хлеба.
Я был довольно бойким и у учителей - на хорошем счету. Отличник, к тому же москвич. Наверное, поэтому, несмотря на малый возраст, меня привлекали ко всяким общественным делам. Однажды завуч вызвала меня из класса во время урока, отвела к себе в кабинет и дала прочесть заметку в газете о героическом подвиге юной партизанки - первое сообщение о Зое Космодемьянской. Заметку я читал вслух последовательно во всех классах, где шли занятия. Потом меня ввели в бригаду артистов, выступавшую с концертами в госпиталях. Моим коронным номером стало стихотворение Лермонтова "Бородино", из которого, стараясь говорить басом, я произносил только первую затравочную фразу:
Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Далее по тексту вступал "дядя" (девочка на голову выше меня) и другие артисты, а я, подбоченясь, внимал - и мы срывали в больничных палатах немалые аплодисменты. Никогда не забуду эти госпитали с лежачими и ходячими ранеными, тесно поставленными койками, спертым больничным воздухом, десятками внимательных добрых глаз. Теперь-то я понимаю, что мы не столько доносили бойцам героический смысл бородинского сражения, сколько показывали, что и их дети там, в далеком тылу, такие же бодрые и веселые.
Зимой голод стал страшным, особенно после того, как случился пожар на городском складе, где сгорели запасы зерна. Пайка не хватало. Рабочих подкармливали на фабрике. Нам оставались только наши зеленые карточки. Цены на рынке были ужасными. Сестра от голода стала слепнуть. Есть хотелось всегда, даже во сне. Как трудно было удержать себя и не отрезать маленький (казалось, незаметный) кусочек от дневной нормы, лежащей в буфете. Мама от нас ничего не запирала. Научились резать хлеб тонкими слоями, как довоенную колбасу, - создавалась иллюзия, что его много. Но желудок не глаз, его не обманешь. Надо было что-то делать. Вместе с другими женщинами мать пошла "в народ" - по окрестным деревням. На картошку и капусту меняли городские вещи и все, что в это суровое время имело хоть какую-то цену. Деревенские с их подвальными запасами охотно брали хорошую обувь и одежду, женские украшения, белье. Мы с сестрой встречали "продотрядников" с мешками и котомками на конечной автобусной остановке и часто долго сидели на узлах, пока все это богатство перевозилось на саночках домой.
Посиделки на кухне давно закончились. Все наши парни отправились на войну. Но появились другие - молодые лейтенанты, в новеньких гимнастерках, в ремнях и портупеях, размещенные по квартирам нашего дома. Как они были непохожи на тех заморенных солдат, которые летом проходили мимо по булыжной мостовой. Эти были румяные, веселые, заигрывали с девушками, делились с нами своими харчами, иногда приносили обеды из военной столовой и после короткой, пара месяцев, подготовки уходили на фронт. Они-то, думал я, зададут фрицам жару, как Тарас Бульба ляхам. Наверное, такие вот и прогнали немцев от Москвы.
А потом я заболел. Ночью меня везли на санках в далекую больницу. На лицо опускались снежинки. Мама и Таня время от времени нагибались ко мне и говорили, что осталось пройти совсем немного, а там меня положат в теплую постель и будут поить сладким чаем.
У меня оказался дифтерит, и в одной палате со мной лежали еще трое детей, которые уже поправлялись. А у меня была высокая температура, горло перехватило, как жгутом, и потолок почему-то не стоял на месте, то уходил ввысь, а то вдруг начинал снижаться, и я боялся, что он меня раздавит. Мне поставили, как говорил доктор, серебряную трубку в горло, чтобы воздух легче проходил в грудь. И я заснул.
В какое-то утро проснулся, не чувствуя обычной горловой боли. В палате было светло и солнечно, а на стуле рядом с кроватью сидел отец в военной форме и смотрел на меня. Он поднес палец к губам и сказал, чтобы я не разговаривал, как будто я не знал, что от этого у меня может выскочить серебряная трубочка из горла. Я был очень сообразительным и даже без слов смог объяснить отцу, что мне уже совсем не плохо.
В марте 43-го мы вернулись к себе домой, в военный городок. По фасаду первого корпуса шла огромная трещина, а напротив зияла глубокая воронка от авиационной бомбы. Половина домов была закрыта, многие жильцы еще не вернулись из эвакуации. А за керосиновой лавкой, в снегу лежал сбитый "юнкерс" с черными крестами на крыльях и можно было, проваливаясь по пояс, дойти до него и забраться по скользкому металлу на крыло. Вместе со снегом, казалось, таял и этот стервятник. Его разламывали и разбирали на куски. Еще некоторое время мы видели обглоданный скелет, на котором уже не было заметно крестов, а потом и весь он пропал.
Стало ясно - немцам капут. Вот только бы вернулся Саша. Но Саша не вернулся - погиб в первые дни войны.
Через год в деревянном бараке возле нашего дома разместили пленных немцев, которые работали на стройке. Обросшие, в грязных пилотках и тощих шинелях, они ходили по городку группами и по одиночке, стучались в квартиры, предлагая за еду выполнить любую домашнюю работу. Мальчишки выменивали у них ножики с цветными пластмассовыми рукоятками, немецкие монеты со свастикой из эрзацметалла, белые таблетки сухого спирта, который горел голубым пламенем. Немцы были настолько жалкими, что забывалось все то зло, которое они нам принесли, и никакой ненависти я не ощущал.
Однажды один пленный заговорил со мной на улице. Указывая рукой вдаль, он о чем-то спрашивал. Я никак не мог его понять, хотя учил немецкий в школе и занимался с учительницей дома. Он настойчиво повторял какое-то непонятное слово: "krem", "krenl". В стороне стояла кучка пленных, казалось, с интересом ожидавших конца разговора. Наконец до меня дошло: немец спрашивал, где находится Кремль и можно ли его увидеть. Когда в декабре они рвались к Москве, им говорили, что она - вот, рядом, и уже можно видеть Кремль. Так где же он? Пришлось сказать, что Кремль - далеко, в центре Москвы, до него еще километров двадцать и отсюда его не увидишь. Пленные были явно расстроены - не только войну проиграли и в плен попали, но и Кремль, оказывается, не видели. Близок был локоток, да не укусишь.