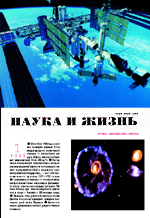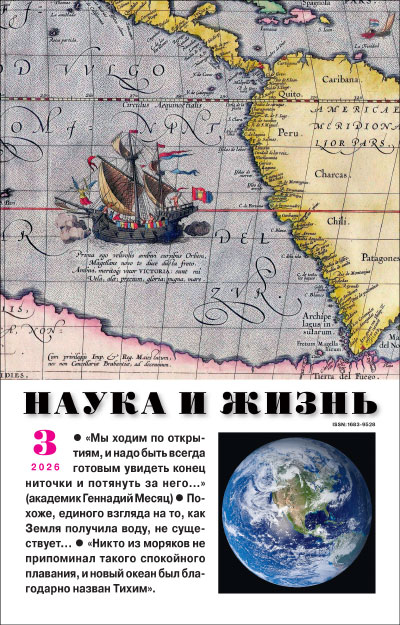Там у мельницы
взмахи легки,
Рыбья молодь сплавляет
колечки...
И до Черной
погибельной речки
Расстоянье — короче руки.
Марк Сергеев.
Последнему году жизни Пушкина, его дуэли и смерти посвящены сотни исследований, десятки книг. Казалось, что эта тема, поднятая в начале века П. Е. Щеголевым и продолженная десятками выдающихся российских пушкинистов, к концу века должна была бы исчерпать себя. Прекрасная книга Стеллы Лазаревны Абрамович, думалось, подводила черту. Многие тайны и загадки истории гибели величайшего русского поэта были раскрыты, а то, что продолжало оставаться тайной, казалось, так тайной и останется. Но вот в самом конце нашего столетия, в канун 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина, в этом разделе пушкиноведения произошло неожиданное открытие. Впрочем, “неожиданным” его можно назвать с натяжкой. Архивом Дантеса, хранившимся сначала в Сульце, а потом в Париже, интересовался еще Щеголев. В восьмидесятые годы с Клодом Дантесом, правнуком убийцы Пушкина и владельцем писем, встречались писатель Семен Ласкин и автор этих строк. Ни мне, ни Ласкину Клод Дантес писем тоже не отдал. За годы советской власти тема гибели Пушкина обросла у нас идеологическими штампами. Поэтому вряд ли Клод Дантес доверил бы эти документы кому-нибудь из советских исследователей. И вот несколько лет назад итальянской славистке Серене Витале, профессору университета в Павии, удалось получить и изучить письма Дантеса к барону Геккерну.
Двадцать пять писем Жоржа Дантеса проливают свет на многие важные подробности, ранее остававшиеся неизвестными. Это был роман в письмах, в письмах сугубо доверительных. По аналогии с “Записками д'Аршиака” письма можно было бы назвать “Записками Дантеса”. Но если записки д'Аршиака, секунданта Дантеса, придумал Леонид Гроссман, то записки Дантеса — документ подлинный. Я прочел письма (оригинал написан на французском языке) сначала в итальянском (в книге Витале), а потом и в русском переводе. Конечно, ответа на все вопросы письма тоже не дают. Но мне показалось, что они позволяют подойти, приблизиться к ответу на самый главный вопрос: почему после свадьбы Дантеса и Е. Н. Гончаровой Пушкин отослал 25 января 1837 года оскорбительное письмо голландскому посланнику Геккерну и дуэль стала неотвратима? Вопрос можно сформулировать иначе: отчего погиб Пушкин?
Внутренний мир Пушкина противоречив и необъятен. Его гибель — сложнейшая психологическая драма “простого” человека и гениального творца. И дать окончательный ответ, наверное, не сможет никто. Но приблизиться, сделать еще один осторожный шаг... Вот почему я взялся за написание небольшой хроники, назвав ее “Дорога на Черную речку”.
Хроника эта, основанная на документах, не является тем не менее ни научной, ни научно-популярной статьей. Автор смотрит на нее как на чисто литературный труд. Хотелось бы, чтобы такой же ее увидел мой строгий и доброжелательный читатель.
***
Когда началась эта дорога? На каком расстоянии от “погибельной речки”? Может быть, 18 февраля 1831 года, когда в церкви Вознесения, что в Москве у Никитских ворот, протоирей Иосиф Михайлов, соединив руки Пушкина и Гончаровой и обведя их вокруг аналоя, пропел “Исайя ликуй”?
Вскоре после приезда молодых из Москвы в Петербург Дарья Федоровна Фикельмон делает запись в дневнике: “1831.21 мая. Пушкин приехал из Москвы и привез свою жену, но не хочет еще ее показывать. Я видела ее у маменьки — это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая — лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением, — глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные, — взгляд не то чтобы косящий, но неопределенный, тонкие черты, красивые черные волосы. Он очень в нее влюблен, рядом с ней его уродливость еще более поразительна, но когда он говорит, забываешь о том, чего ему недостает, чтобы быть красивым, его разговор так интересен, сверкающий умом, без всякого педантства”. (Здесь и далее сохраняется орфография и пунктуация оригинала. — Прим. автора.)
А может быть, дорога началась 11 октября 1833 года, когда французский роялист Жорж Дантес, молодой красавец, ровесник Натальи Николаевны (он старше ее на 6 месяцев и 22 дня) прибыл в Петербург вместе со своим опекуном бароном Луи Геккерном де Беверваард? Газета “Санкт-Петербургские ведомости” писала в тот день:
“Пароход Николай I, совершив свое путешествие в 78 часов, 8-го сего октября прибыл в Кронштадт с 42 пассажирами, в том числе королевский нидерландский посланник барон Геккерен”.
Но пути Пушкина и Жоржа Дантеса могли бы и разойтись летом 1835 года.
В письме графу Бенкендорфу Пушкин пишет 1 июня 1835 года: “Ныне я поставлен в необходимость покончить с расходами, которые вовлекают меня в долги и готовят мне в будущем только беспокойство и хлопоты, а может быть нищету и отчаяние. Три или четыре года уединенной жизни в деревне снова дадут мне возможность по возвращении в Петербург возобновить занятия, которыми я пока еще обязан милости его величества...” Тогда же, через две недели, Пушкин пишет В. А. Дурову из Петербурга в Елабугу: “...деньги дело наживное. Главное, были бы мы живы”. Сейчас бы сказали: он как в воду глядел. Но уехать из “свинского Петербурга” в деревню не удалось. И уже 4 июля Пушкин отступает: “Государю угодно было отметить на письме моем к Вашему сиятельству, что нельзя мне будет отправиться на несколько лет в деревню, иначе как взяв отставку”. А отставка — это запрет на вход в архивы. Так, может быть, дорога к Черной речке и началась тем летом?
Или все-таки позже... Например, 4 ноября 1836 года, когда утром городская почта доставила поэту и его ближайшим друзьям анонимное письмо-пасквиль, в котором Пушкин объявлялся рогоносцем. И в тот же день произошло еще одно роковое событие, о котором мы узнали, только получив доступ к письмам.
А может быть, это судьба, и версты по этой дороге надо отсчитывать с самого первого дня, с четверга 26 мая 1799 года, со дня Вознесения, когда поэт родился? П. И. Бартенев писал о Пушкине, что “важнейшие события его жизни все совпадали с днем Вознесения”.
В воспоминаниях В. А. Соллогуба есть любопытная фраза. Так и хочется вырвать ее из контекста. Соллогуб пишет: “Итак, документы, поясняющие смерть Пушкина, целы и находятся в Париже”. Соллогуб был прав, хотя имел в виду совсем другое. Речь шла о пакете с документами, который фельдъегерь вручил Жоржу Дантесу на границе при его высылке из России. Несколько лет назад в парижском архиве Дантеса, у его правнука барона Клода, нашлись двадцать пять писем Жоржа Дантеса, которые он писал барону Геккерну в течение двенадцати месяцев начиная с весны 1835 года. Голландский посланник на год уехал в отпуск за пределы России. Этим отпуском он хотел воспользоваться, чтобы усыновить Жоржа Дантеса. Для чего требовалось специальное разрешение голландского двора и согласие семьи. Весь этот год будущие отец и сын переписывались. В своих письмах Дантес делился петербургскими новостями. Мы узнаем о пушкинском Петербурге, увиденном глазами Дантеса. И, конечно, в центре всех новостей — роман с Натальей Николаевной Пушкиной. Ответных писем Геккерна мы не знаем. Но его голос, как эхо, улавливаем из писем сына. И хотя упоминания о самом Пушкине в письмах почти нет, события, о которых пишет Дантес, необычайно важны для понимания душевного состояния поэта в этот страшный для него год. Говоря словами Соллогуба, речь идет о “документах, поясняющих смерть Пушкина”.
До самого последнего времени мы знали только два коротких отрывка из двух писем Дантеса. Их получил Анри Труайя от внука Жоржа Дантеса и опубликовал вскоре после войны. Затем М. А. Цявловский опубликовал в “Звеньях” их русский перевод. Публикация вызвала настоящую сенсацию. Сам М. А. Цявловский писал в комментарии: “Ответное чувство Натальи Николаевны к Дантесу теперь... не может подвергаться никакому сомнению”. Большое значение этим двум фрагментам писем придавала и С. Л. Абрамович, выдающийся исследователь последнего года жизни Пушкина. Она писала: “Письма Дантеса, опубликованные французским писателем Анри Труайя, относятся как раз к этому времени — к началу 1836 года. Они могли бы многое прояснить, если бы не были вырваны из контекста всей переписки. Взятые вне этого контекста и без учета особенностей эпистолярного стиля и бытовой культуры эпохи, они подают повод для крайне субъективных суждений”. Теперь благодаря публикации Серены Витале все письма известны, и бояться “субъективности” уже нет оснований.
Факты и версии, собранные друзьями Пушкина, его секундантом и современниками, мы знаем. Но правда неделима, и двух “правд” не бывает. По другую сторону барьера стоял Жорж Дантес. Он тоже многое знал и многое пережил. И сейчас, когда его доверительные письма и признания Геккерну стали наконец известны, дорогу к Черной речке нужно пройти снова. И пройти ее не только с Пушкиным, но и с Дантесом. Ничего не поделаешь... У Пушкина мы читаем: “Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман”. Да, такова природа человека. Но когда идет речь о Пушкине, возвышает не обман, а истина. Сейчас появилась возможность подойти к ней ближе.
Перечитаем документы, как старые, уже хорошо известные и исследованные, так и новые, ставшие доступными меньше трех лет назад.
С чего начнем? Наверное, с того как эльзасский дворянин, выпускник военной Сен-Сирской школы, убежденный роялист и неудачливый “паж” герцогини Беррийской прибывает в Санкт-Петербург 11 октября 1833 года в надежде “славы и чинов”. Так и хочется сравнить его с д'Артаньяном (хотя это сравнение не в пользу героя Дюма). Подобно знаменитому мушкетеру, Дантес уповал на две вещи: острую шпагу и рекомендательное письмо. Письмо было от прусского принца Вильгельма, женатого на племяннице русского царя, и адресовал он его к генерал-майору Владимиру Федоровичу Адлербергу, директору канцелярии русского военного министра. И еще Жорж Дантес очень надеялся на помощь нидерландского посланника в Петербурге барона Луи Геккерна. Барон познакомился со статным красивым юношей на его пути в Россию, где-то в Германии. Познакомился, полюбил всей душой и решил принять в его судьбе самое сердечное отцовское участие. Вы скажете — так не бывает? Почему? Бывает...
Сначала Дантес поселился в Английском трактире на Галерной улице во втором этаже. Адлерберг сообщает ему по этому адресу, что сразу после Крещения генерал Сухозанет подвергнет его экзамену. Позже Дантес переедет жить к Луи Геккерну в голландское посольство на Невском проспекте, 48, в двухэтажный дом, второй этаж которого Геккерн арендовал у графа Влодека. Сюда же после 10 января 1837 года переедет молодая жена Жоржа, Екатерина Николаевна Гончарова, свояченица Пушкина. Впрочем, и об этом позже...
В тот день, 11 октября 1833 года, Александр Сергеевич находится на расстоянии нескольких тысяч верст от Петербурга, в Болдине. Пушкин счастлив, работает запоем, пишет. Среди прочего пишет письмо жене: “... не кокетничай с царем... Что касается до тебя, то слава о твоей красоте достигла до нашей попадьи, которая уверяет, что ты всем взяла, не только лицом, да и фигурой. Чего тебе больше”. Через недели три, 30 октября, Пушкин пишет жене из Болдина: “Ты, кажется, не путем искокетничалась. Смотри: недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нем толку мало. Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе з...; есть чему радоваться!... Было бы корыто, а свиньи будут. К чему тебе принимать мужчин, которые за тобой ухаживают? Не знаешь, на кого попадешь. Прочти басню А. Измайлова о Фоме и Кузьме. Фома накормил Кузьму икрой и селедкой. Кузьма стал просить пить, а Фома не дал. Кузьма и прибил Фому как каналью. Из этого поэт выводит следующее нравоучение: красавицы! Не кормите селедкой, если не хотите пить давать: не то можете наскочить на Кузьму... Я не ревнив, да и знаю, что ты во все тяжкое не пустишься; но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской барышней, все, что не comme il faut, все, что vulgar...” И в этом же письме противопоставляет облику “московской барышни” “милый простой аристократический тон” своей жены. Конечно же, Наталья Николаевна пишет мужу о каких-то светских сплетнях, о каких-то своих воздыхателях. Письма ее до нас не дошли, подробностей и имен мы не знаем. Да важно ли это? Важно другое. Наделенный таинственным непостижимым предчувствием, Пушкин рассказывает жене басню, о которой мы еще вспомним.
В одном из последних болдинских писем к жене он возвращается к начатой теме: “Женка, женка! Я езжу по большим дорогам, живу по три месяца в лесной глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, которую ненавижу, — для чего? — Для тебя, женка; чтоб ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоею красотою. Побереги же и ты меня. К хлопотам, неразлучным с жизнью мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности etc, etc. Не говоря об cocuage*...”
Конечно, о Дантесе пока и речи нет. Лишь несколько месяцев спустя, 14 февраля 1834 года, будет издан приказ по Кавалергардскому полку о зачислении его в полк корнетом. Пушкин делает запись в дневнике: “26 января. Барон д'Антес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет”. Дантес делает быструю карьеру. Чего о Пушкине не скажешь (если слово “карьера” к нему вообще применимо). Пушкин впервые надел чиновничий мундир, о чем пишет в дневнике: “1 января. Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтоб Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Там я же сделаюсь русским Dangeau...” и далее: “... а по мне хоть в камер-пажи, только б не заставили меня учиться французским вокабулам и арифметике”. Пушкину шел 35-й год. Какой-нибудь ничтожный Сергей Семенович Уваров получил начальный придворный чин в 18 лет. Но Наталья Николаевна должна была появляться и плясать в Аничковом дворце... И уже через три месяца Пушкин записывает в дневник: “6 марта. Слава богу! Масленица кончилась, а с нею и балы... Все кончилось тем, что жена моя выкинула. Вот до чего доплясались”.
Весною 1834 года Наталья Николаевна уезжает на лето в калужское имение Гончаровых — Полотняный Завод. В одном из летних писем Пушкин пишет короткую фразу, которая выражает все его чувства: тоску по жене и любовь к ней. “Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив”. И там же в письме: “Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным”. В начале января 1836 года Пушкин писал П. В. Нащокину: “Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться”. Чем враждебнее светский Петербург, злее преследование цензуры, удушливее общественная жизнь и горше непонимание близких друзей, тем ближе и важнее становились для Пушкина семья, его дом. О чем хорошо сказал Ю. М. Лотман, когда назвал дом Пушкина, его семью “цитаделью личной независимости и человеческого достоинства”. Что очень важно понять. Без этого не раскрыть ту психологическую драму, которая разыгралась в душе поэта в конце 1836 года, когда цитадель обрушилась.
К сожалению, ответные письма Натальи Николаевны нам не известны. Любила ли юная красавица своего мужа? Не раз высказывалось мнение, что она была неглубокой, поверхностной натурой, не понимала масштаба личности мужа, была безразлична к его творчеству, не разделяла его забот и что сердце ее не было разбужено, дремало до поры до времени, не зная любви. Давайте забежим вперед и прочтем известное письмо Натальи Николаевны брату Дмитрию Николаевичу, написанное в июле 1836 года и посланное из Петербурга в Полотняный Завод: “Теперь я хочу немного поговорить с тобой о моих личных делах. Ты знаешь, что пока я могла обойтись без помощи из дома, я это делала, но сейчас мое положение таково, что я считаю даже своим долгом помочь моему мужу в том затруднительном положении, в котором он находится; несправедливо, чтобы вся тяжесть содержания моей большой семьи падала на него одного, вот почему я вынуждена, дорогой брат, прибегнуть к твоей доброте и великодушному сердцу, чтобы умолять тебя назначить мне с помощью матери содержание, равное тому, какое получают сестры, и если это возможно, чтобы я начала получать его до января, то есть с будущего месяца. Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю как вести дом, голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами, и без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам и, следственно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию: для того, чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна. И, стало быть ты легко поймешь, дорогой Дмитрий, что я обратилась к тебе, чтобы ты мне помог в моей крайней нужде. Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение; по крайней мере содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на детей, а это уже благородная цель. Я прошу у тебя этого одолжения без ведома моего мужа, потому что если бы он знал об этом, то, несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать. Итак, ты не рассердишься на меня, дорогой Дмитрий, за то, что есть нескромного в моей просьбе, будь уверен, что только крайняя необходимость придает мне смелость докучать тебе”.
А если перечитать письма Пушкина к жене, то поражаешься, как много в них не только хозяйственных, но чисто литературных и издательских забот. Пушкин делится с женой самыми сокровенными и горькими мыслями о русской жизни, о “свинском Петербурге”, где живешь “между пасквилями и доносами”, о горькой судьбе писателя и журналиста в России. В том же 1836 году он напишет: “Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом!” Но ведь это разговор с умным, понимающим собеседником. Нет, не была Наталья Николаевна глупой, пустой и бездушной светской красавицей, хотя до ума и проницательности Дарьи Федоровны Фикельмон ей наверняка было далеко. Она заботливая жена и хорошая мать. А что до сердца... Подождем. Ведь сейчас еще ранняя весна 1834 года.
Пока Жорж Дантес примеряет белый мундир и сверкающую золотом кирасу кавалергарда, знакомится с друзьями по полку, заводит дружбу с Александром и Сергеем Трубецкими, Адольфом Бетанкуром и Александром Полетикой, прозванным в полку “божьей коровкой”, продолжим наше “медленное” чтение, заглянем в дневник Пушкина, где 17 марта появляется запись: “Много говорят о бале, который должно дать дворянство по случаю совершеннолетия государя наследника... Вероятно, купечество даст также свой бал. Праздников будет на полмиллиона. Что скажет народ, умирающий с голода?” Вопрос, на который Пушкин уже сам ответил 7 ноября 1825 года, окончив “Бориса Годунова”: “Народ безмолвствует”. Как все современно, злободневно, не правда ли? В тот же день Пушкин заносит в дневник: “Вчера было совещание литературное у Греча об издании русского “Conversation's Lexicon”**. Нас было человек со сто, большею частью неизвестных мне русских великих людей. Я подсмотрел много шарлатанства и очень мало толку... Вяземский не был приглашен на сие литературное сборище”. Или вот запись в дневнике 20 марта: “Третьего дня был бал у кн. Мещерского. Из кареты моей украли подушки, но оставили медвежий ковер, вероятно за недосугом”. 2 апреля 1834 года в дневнике поэта появляется такая запись: “В прошлое воскресенье обедал я у Сперанского. Он рассказал мне о своем изгнании в 1812 году. Он выслан был по Тихвинской глухой дороге. Ему дан был в провожатые полицейский чиновник, человек добрый и глупый. На одной станции не давали ему лошадей; чиновник пришел просить покровительства у своего арестанта: Ваше превосходительство! Помилуйте! Заступитесь великодушно. Эти канальи лошадей нам не дают”. Пройдет почти три четверти века, ничего не изменится, и Чехов напишет своего “Хамелеона”. Ничего не изменится и позже. “Говорят, — пишет в дневнике Пушкин 16 апреля, — будто бы на днях выйдет указ о том, что уничтожается право русским подданным пребывать в чужих краях. Жаль во всех отношениях, если слух сей оправдается”. Тогда слух оправдался, но частично. Полностью он оправдался сто лет спустя. А вот как Пушкин пишет в дневнике о царе. Московская почта перлюстрировала его письма к жене. Пушкин замечает 10 мая: “...я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако, какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит читать их царю..., и царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина!” А вот запись, сделанная 21 мая: “Кто-то сказал о государе: В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого”. Тургенев назвал Пушкина “самым русским человеком своего времени”, а Гоголь еще раньше высказал мысль о том, что Пушкин явил собою тип русского человека в его высшем развитии.
А теперь скажите, дорогой читатель, положа руку на сердце, много ли русских советских писателей осмелилось (хотя бы в тайном дневнике) написать о Сталине, что в нем много от коварного сатрапа, но мало от “корифея науки”? Но Гоголь прав. Время равнения на Пушкина еще не настало, но оно обязательно придет.
Читатель может подумать, что в своем “медленном чтении”, как говорил Эйдельман, мы отвлеклись и с дороги на Черную речку свернули не в ту сторону. Нисколько. Пока кавалергард обустраивается, несет службу, танцует на балах, пока его ждут роскошные комнаты голландского посольства с драгоценным антиквариатом, восточными вазами, картинами и другими раритетами, которые Луи Геккерн собирает со скупой мелочной страстью, мы немного рассказали о Пушкине и Наталье Николаевне их же собственными словами. Подходит к концу 1834 год. 18 декабря Пушкин пишет в дневнике: “Третьего дня я был в Аничковом. Опишу все в подробности, в пользу будущего Вальтер Скотта. Придворный лакей поутру явился ко мне с приглашением: быть в 8 с половиной часов в Аничковом, мне в мундирном фраке, Наталье Николаевне как обыкновенно. В 9 часов мы приехали. На лестнице встретил я старую графиню Бобринскую, которая всегда... выводит меня из хлопот. Она заметила, что у меня треугольная шляпа с плюмажем (не по форме: в Аничков ездят с круглыми шляпами; но это еще не все). Гостей было уже довольно; бал начался контрдансами... Граф Бобринский, заметя мою треугольную шляпу, велел принести мне круглую. Мне дали одну, такую засаленную помадой, что перчатки у меня промокли и пожелтели... У Дуро спросили, как находит он бал. — Je m'ennuie, — отвечал он. — Pourquoi cela? — On est debout, et j'aime a` etre assis...”*** Маркиз де Дуро, английский путешественник, представлялся Николаю на балу. Его фраза Пушкину понравилась. Пушкину самому и скучно, и противно. Будущий Вальтер Скотт (для которого поэт пишет) мог бы с его слов живо изобразить сцену. Пушкин, низкого роста, в нелепом придворном мундире, в дикой шляпе с круглыми полями и рядом прекрасная Наталья Николаевна, выше его почти на голову, затянутая, с осиной талией... И мы уже можем представить все будущие балы 1835 и 36 годов, блестящего ловкого кавалергарда, танцующего мазурку с первой петербургской красавицей, и поэта в полосатом кафтане, “мрачного как ночь, нахмуренного, как Юпитер во гневе” ****. Все трое могли встретиться уже на этом балу.
Наступил 1835 год. 8 января Пушкин пишет в дневнике: “Начнем новый год злословием, на счастье...” Счастья новый год не принесет. Тиски нужды продолжают сжиматься. Чтобы сократить расходы и литературным трудом заработать деньги, надо было ехать с семьей надолго в деревню. Но царь отпуска не давал, а отставка лишала поэта доступа к архивам и литературного заработка. Получался заколдованный круг. Пушкин пишет в дневнике: “Выкупив бриллианты Натальи Николаевны, заложенные в московском ломбарде, я принужден был их перезаложить в частные руки, не согласившись продать их за бесценок”. К 1 января 1836 года долг Пушкина превышал 77 тысяч рублей. А его жалование в год составляло всего 5 тысяч. А бриллианты жены поэт так и не смог выкупить до конца своей жизни. Издание “Современника”, разрешенное в начале 1836 года, не облегчило материального положения семьи Пушкина.
Министр С. С. Уваров и председатель Санкт-Петербургского цензурного комитета М. А. Дондуков-Корсаков затягивают цензурную петлю и травят Пушкина. А ведь царь обещал ему еще в 1826 году ограничить цензуру своим личным контролем. В феврале 1835 года Пушкин пишет: “В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дондуков (дурак и бардаш) преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтобы я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит. Кстати об Уварове: это большой негодяй и шарлатан...” К концу 1835 года, когда Пушкин своим “Лукуллом” пригвоздил “негодяя и шарлатана” к позорному столбу, Сергей Семенович Уваров имел уже все мыслимые должности и звания. Одно их перечисление заняло бы страницу. Вот только некоторые: президент Академии наук, член Российской академии, член Академии художеств, министр просвещения, председатель Главного управления цензуры, член Государственного совета, председатель комитета учебных заведений, действительный тайный советник. Страсть к коллекционированию должностей, званий и орденов при полном отсутствии таланта сохранится в России надолго. Еще в 1834 году Пушкин писал в дневнике о смерти Кочубея: “Казалось, смерть такого ничтожного человека не должна была сделать никакого переворота в течении дел. Но такова бедность России в государственных людях, что и Кочубея некем заменить!”
В феврале 1835 года Пушкин пишет в дневнике: “Цензура не пропустила следующие стихи в сказке моей о Золотом петушке:
“Царствуй, лежа на боку”.
Если бы Пушкин знал, что и через 120 лет цензура в России не изменится! Рассказывают, что в 1951 году в период борьбы с космополитизмом в каком-то издательстве пушкинская “Сказка о царе Салтане” была подвергнута “редакции”. Как известно, на вопрос царя:
“Ладно ль за морем иль худо? И какое в свете чудо?”
гости отвечают:
“За морем житье не худо; В свете ж вот какое чудо: Остров на море лежит...”
и так далее. В “отредактированном” советском тексте гости отвечали:
За морем житье плохое, В свете ж чудо вот какое: Остров на море лежит...
И уже совсем недавно, в горбачевские времена, во время партийной кампании против алкоголизма запрещалось по радио читать “Вакхическую песнь”. Так, может, Пушкину было бы легче, знай он, что за полтораста лет цензура в России не изменится? Надо думать — наоборот.
Весной 1835 года голландский посланник покидает Петербург, едет в отпуск. 18 мая 1835 года Жорж Дантес пишет будущему отцу*****:
“ ... Мое письмо найдет вас уже устроенным, довольным и познакомившимся с папенькой Дантесом. Мне чрезвычайно любопытно прочесть ваше следующее письмо, чтобы узнать, довольны ли вы выбором вод и обществом, там найденным. Как бы все было по-иному, будь я не одинок, как сейчас, а с вами! Как был бы счастлив! Пустоту, которую обнажило ваше отсутствие, невозможно выразить словами. Я не могу найти для нее лучшего сравнения, чем с той, что вы, должно быть чувствуете сами, ибо хоть порой вы и принимали меня, ворча (я, конечно, имею в виду время важной депеши), я знал тем не менее, что вы рады немного поболтать; для вас, как и для меня, вошло в необходимость видеться в любое время дня. Приехав в Россию, я ожидал, что найду там только чужих людей, так что вы стали для меня провидением! Ибо друг, как вы говорите, — слово неточное, ведь друг не сделал бы для меня того, что сделали вы, еще меня не зная. Наконец, вы меня избаловали, я к этому привык, так скоро привыкаешь к счастью, а вдобавок — снисходительность, которой я никогда не нашел бы в отце. И что же, вдруг оказаться среди людей завистливых и ревнующих к моему положению, вот и представьте, как сильно я чувствую разницу и как мне приходится ежечасно осознавать, что вас больше здесь нет. Прощайте, дорогой друг. Лечитесь как следует,
а развлекайтесь еще больше, и, я уверен, вы вернетесь к нам в добром здоровье и с таким самочувствием, что, точно в 20 лет, сможете жить в свое удовольствие, не беспокоясь ни о чем на свете. По крайней мере, таково мое пожелание, вы знаете, как я вас люблю, и от всей души, пока же целую вас так же, как люблю, то есть очень крепко.
Всецело преданный вам, Ж. Дантес”
И в следующих письмах Дантес настойчиво и неукоснительно выражает свою любовь к Луи Геккерну. Была ли то на самом деле любовь или только благодарность — кто знает? Для нас не столь уж и интересно. Но можно твердо верить автору, что встреча с Геккерном стала для него, как он пишет, провидением. Это и материальная поддержка, и светские связи, без которых завоевать северную русскую столицу было бы нелегко. А Дантес только и думает о блестящей карьере, о цели, к которой он стремится всеми возможными способами. Что видно хотя бы из его письма от 20 июня:
“ Павловск, 20 июня 1835 г.
Мой дорогой друг, как я счастлив: сию минуту получил я письмо сестры, сообщающее, что вы приехали в Баден-Баден и, что мне много интереснее, что вы в совершенном здравии. Мой бедный старый отец в восторге. Итак, он пишет, что невозможно испытывать большую привязанность, чем вы ко мне, что вы ни на минуту не расстаетесь с моим портретом. Благодарю, благодарю тысячу раз, мой дорогой, и мое единственное постоянное желание — чтобы вам никогда не довелось раскаяться в своей доброте и жертвах, на которые вы себя обрекаете ради меня; я же надеюсь сделать карьеру, достаточно блестящую для того, чтобы это было лестно для вашего самолюбия, будучи убежден, что вам это будет наилучшим вознаграждением, коего жаждет ваше сердце.
Мой дорогой друг, у вас постоянные страхи о моем благополучии, совершенно необоснованные; перед отъездом вы дали мне достаточно, чтобы с честью и спокойно выпутаться из затруднений, особенно, когда мы возвратимся в город. В лагере я и впрямь немного стеснен, но это всего на несколько месяцев, а как только вернусь в город, все будет прекрасно; да если в моей кассе и обнаружится недостаток во время маневров (чего не думаю), уверяю, я тотчас вас предупрежу, так что ваше доброе сердце может быть спокойно: раз я ни о чем не прошу, следовательно, ни в чем не нуждаюсь... ”
Я не собираюсь цитировать все письма Дантеса, приводить их полностью. Нам интересна только та их часть, которая позволит восстановить контекст двух отрывков, опубликованных Анри Труайя. Если сравнить эти вырванные из контекста отрывки с замочной скважиной, то письма Дантеса — дверь, распахнутая в квартиру врагов Пушкина, что дает возможность многое прояснить.
Между тем Дантес делает все новые успехи и по службе, и в свете. О чем свидетельствует следующее письмо от 14 июля:
“. ..Однако, следует быть справедливым, ведь до сих пор я говорил вам только о плохой стороне наших маневров, а между тем мы находили в них удовольствия: празднества шли чередой, а Императрица была ко мне по-прежнему добра, ибо всякий раз, как приглашали из полка трех офицеров, я оказывался в их числе; и Император все так же оказывает мне благоволение. Как видите, мой добрейший, с этой стороны все осталось неизменным. Принц Нидерландский (принц Вильгельм Оранский. — В. Ф.) тоже весьма любезен, он при каждом удобном случае осведомляется о вас и спрашивает, улучшается ли ваше здоровье; можете вообразить, как я счастлив, когда могу сказать ему, что у вас все идет на лад, и вы совершенно поправитесь к будущему году... Он уверил меня, раз тамошние врачи прописывают вам лечение виноградом — это лучшее доказательство полного восстановления вашего здоровья. Представляю, какая радость была в Сульце, когда там узнали, что вы приедете на две недели, а если ненароком вам и случится там поскучать, заранее прошу вашей снисходительности. Они так захотят вас развлечь, что в конце концов наскучат. Да может ли быть по-иному, разве вы не благодетель для них всех; ведь в наше время <трудно> найти в чужестранце человека, который готов отдать свое имя, свое состояние, а взамен просит лишь дружбы; дорогой мой, надо быть вами и иметь такую благородную душу, как ваша, для того, чтобы благо других составило ваше собственное счастье; повторяю то, что уже не раз вам говорил — мне легко будет стремление всегда вас радовать, ибо я не дожидался от вас этого последнего свидетельства, чтобы обещать вам дружбу, которая закончится только со мною: все, что я здесь говорю — не просто фразы, как вы меня упрекали в последнем письме; раз уж мне невозможно иначе выразить все, что я чувствую, вам придется покориться и читать об этом, ежели вы хотите узнать всю мою душу... ”
Дантес называет Геккерна “благодетелем” и пишет, что “не дожидался этого последнего свидетельства, чтобы обещать вам дружбу”. Какого свидетельства? Сам и отвечает: готовности “отдать свое имя, свое состояние”. Как всегда, Луи Геккерн ревнив. Но это еще не та жгучая ревность, которая охватит его позже. Сейчас он упрекает Дантеса в том, что его слова о любви и верности — просто фразы. Не читая ответных писем Геккерна, мы слышим его голос. Он эхом доносится до нас из письма Дантеса, датированного 1 сентября 1835 года:
“ Дорогой мой, вы большое дитя. К чему настаивать, чтобы я говорил вам “ты”, точно это слово может придать большую ценность мысли и когда я говорю “я вас люблю” — я менее чистосердечен, чем если бы сказал “я тебя люблю”. К тому же, видите ли, мне пришлось бы отвыкать от этого в свете, ведь там вы занимаете такое место, что молодому человеку вроде меня не подобает быть бесцеремонным. Правда, вы сами — совсем другое дело. Уже довольно давно я просил об этом, такое обращение от вас ко мне — прекрасно; впрочем, это не более чем мои обычные рассуждения; безусловно, не мне жеманиться перед вами, Господь мне свидетель...
В нашем полку новые приключения. Бог весть, как все окончится на сей раз. На днях Сергей Трубецкой с еще двумя моими товарищами, после более чем обильного ужина в загородном ресторане, на обратном пути принялись разбивать все фасады придорожных домов; вообразите, что за шум случился назавтра. Владельцы пришли с жалобой к графу Чернышеву (военному министру. — В. Ф.), а он приказал поместить этих господ в кордегардию и отправил рапорт Его Величеству в Калугу. Это одно. А вот и другое: на днях, во время представления в Александринском театре, из ложи, где были офицеры нашего полка, бросили набитый бумажками гондон в актрису, имевшую несчастье не понравиться. Представьте, какую суматоху это вызвало в спектакле. Так что Императору отослали второй рапорт; и если Император вспомнит свои слова перед отъездом, что, случись в полку малейший скандал, он переведет виновных в армию, то я, конечно, не хотел бы оказаться на их месте, ведь эти бедняги разрушат свою карьеру, и все из-за шуток, которые ни смешны, ни умны, да и сама игра не стоила свеч.
Коль скоро я заговорил о театре, надо войти и за кулисы и рассказать, что нового произошло после вашего отъезда. Между красавчиком Полем и Лаферьером (актеры французской труппы. — В. Ф.) — война насмерть! И все из-за пощечины, полученной последним от первого; зеваки рассказывают, что они ревнуют друг друга из-за любви старухи Истоминой (прославленная Пушкиным балерина. — В. Ф.), поскольку считается, что она хочет уйти от Поля к Лаферьеру.
Другие рассказывают, что Поль застал Лаферьера у окна подсматривающим в щелку, как он, Поль, завоевывает благосклонность у своих возлюбленных. Коротко говоря, как я и писал, за этим последовала пара оплеух, и Лаферьера с огромным трудом заставили продолжать представление, ибо он полагает, что человек его ранга может предстать перед публикой, только омывшись кровью врага.
... Бедная моя Супруга в сильнейшем отчаянье, несчастная несколько дней назад потеряла одного ребенка, и ей еще грозит потеря второго; для матери это поистине ужасно, я же, при самых лучших намерениях, не смогу заменить их. Это доказано опытом всего прошлого года... ”
Если пренебречь “театральными” новостями и “развлечениями” господ кавалергардов, следует обратить внимание на две фразы этого письма. Дантес в общем не осуждает поведение своих полковых друзей, но пишет, что “бедняги разрушат свою карьеру” и что он “не хотел бы оказаться на их месте”. Карьера. Ей Дантес подчиняет все, все приносит ей в жертву, ради нее ему “не подобает быть бесцеремонным” и обращаться “на ты” к голландскому посланнику, хотя он сам просит о том. Но это не принято в свете. И может повредить карьере молодого человека. Супруга, о которой пишет Дантес, — его любовница. Он не считает возможным назвать в письме ее имя. Но в этом и нет необходимости. Как следует из письма, эта любовная связь у него тянется еще с начала 1834 года и, стало быть, хорошо известна Луи Геккерну. Разумеется, барон недоволен. Но что же поделаешь! Дантес здоров и молод и принадлежит, как сейчас говорят, к сексуальному большинству.
Пушкин проводит сентябрь в Михайловском. Но осень не дарит ему вдохновения. Пушкину не работается. Он пишет жене из Тригорского в Петербург 25 сентября: “В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уж не пляшу. Но делать нечего; все кругом меня говорит, что я старею... Что ты делаешь, моя красавица в моем отсутствии? Расскажи, что тебя занимает, куда ты ездишь...”
Дантес в одном из следующих писем продолжает рассказывать о петербургских “театральных” новостях. Они интересны для характеристики его адресата, барона Луи Геккерна.
“ ... Как видите, мой дорогой, на севере кровь чрезмерно горяча, и тот, кто приезжает туда уже таким, в этом климате ничего не теряет. Вы сможете судить об этом по следующей истории. Прекрасный Поль получил отпуск на 28 дней, чтобы отправиться на поиски похитителя сердца Истоминой и, перерезав ему горло, перерезать себе; по крайней мере, так он говорит. Оказывается, соблазнителем был вовсе не ваш близкий друг Лаферьер, как я писал раньше, но пощечины Поля достались как раз ему. К тому же выясняется, что Лаферьер изменил ему со своим приятелем, недавно приехавшим из Парижа. А вот и еще история. После этого приключения Лаферьер отказался играть в “Жребии”, если Гедеонов (директор императорских театров. — В. Ф.) не получит от Поля письма о том, что тот не давал ему пощечин; сами понимаете, когда начальник просит, он легко получает, так что Поль обнародовал и издал преглупое письмо, которое разносили по домам вместе с афишами. Я в отчаянии, что потерял свое, я переписал бы для вас самые умные пассажи, чтобы дать представление о других ”.
Оказывается , гомосексуалист Лаферьер был близким другом Луи Геккерна. И вообще, все эти события из жизни французской актерской среды и сексуального меньшинства были голландскому посланнику интересны.
Вот еще один отрывок из письма от 26 ноября 1835 года, которое Жорж Дантес посылает Геккерну, гостящему у его семьи в Сульце и ведущему переговоры об усыновлении Жоржа:
“. ..Если бы ты знал, как меня радуют все подробности о покупке земли, с чем ты, вероятно, теперь покончил; ведь я всегда мечтал, чтобы ты обосновался в этой стране (то есть под Фрайбургом, на границе с Эльзасом. — В. Ф.). Раньше я всегда остерегался говорить об этом откровенно, ибо, зная, как ты добр, я мог бы оказать на тебя влияние, чего мне бы не хотелось, ведь стоило положиться на твой вкус и опыт, ибо я убежден, что мне всегда будет от этого лучше. Однако, если покупка еще не состоялась, советую быть очень внимательным, ведь немцы не всегда так глупы, как кажутся, а ты должен непременно извлечь из этого выгоду, особенно если платишь наличными, а такие любители весьма редки в этой стране, где деньги на улицах не валяются. Я также говорил обиняком Клейну о твоем намерении купить землю где-нибудь в Германии; по его словам это было бы в высшей степени благоразумно, принимая во внимание, что держать деньги в портфеле выгодно только торговцам, поскольку это позволяет очень легко и намного увеличить прибыль и иногда компенсирует риск, с которым это связано; для того же, кто просто так держит деньги при себе, этой выгоды уже нет... ”
Далее Дантес пишет о свадьбе Монферрана, построившего Исаакиевский собор. Монферран женился на французской актрисе Элизе де Бонне.
В конце письма — важная приписка: “Едва не забыл сказать, что разрываю отношения со своей Супругой и надеюсь, что в следующем письме сообщу тебе об окончании моего романа”. Обратим внимание, что Дантес объявляет о разрыве с этой женщиной в конце ноября 1835 года.
Цитированное письмо важно для характеристики Жоржа Дантеса. Дантес — практичен. Он, достойный сын Эльзаса, знает цену деньгам и знает, как извлечь из них выгоду. За его веселостью, легкостью, остроумием и общительностью, которые так привлекали к нему сердца в петербургском свете, скрывается трезвая, практичная и расчетливая натура. И еще одна черта. Его блеск и остроумие часто граничат с равнодушным холодным цинизмом. Надо отдать должное его эпистолярному искусству: лучше о себе не расскажешь. К тому же письма Геккерну носят сугубо доверительный характер, что мы всегда должны иметь в виду, размышляя о достоверности выраженных в письме чувств.
Вот еще два отрывка из письма Дантеса, посланного Геккерну 28 декабря 1835 года:
“ ...Вот, мой дорогой, все мысли, что приходят мне на ум, когда думаю о тебе; возможно, я сумел бы изложить их изящнее, но мне все так же пришлось бы повторять, что никогда я не любил никого, кроме тебя. Когда же ты говоришь, что не мог бы пережить меня, случись со мною беда, неужели ты думаешь, что мне такая мысль никогда не приходила в голову? Но я-то много рассудительней тебя, я эти мысли гоню, как жуткие кошмары. Да ведь во что бы превратилась наша жизнь, если, будучи поистине счастливыми, мы стали бы развлекаться, распаляя воображение и тревожась о всех несчастьях, что могут приключиться. Ведь она превратилась бы в постоянную муку, и, право же, если уж ты не заслужил счастья, то и никто, кроме тебя его не заслуживает.
Мой дорогой друг, у меня два твоих письма, а я еще ни на одно не ответил, но дело тут не в небрежении или лени. Недавно я занимался фехтованием у Грюнерса и получил удар по кисти саблей, рассадившей мне большой палец, так что всего несколько дней, как я могу им снова пользоваться. К тому же я просил этого дурня Жанвера (барон Геверс, секретарь голландского посольства. — В. Ф.) тебе написать, не знаю, сделал ли он это, но теперь у меня уже все зажило, и я попытаюсь наверстать упущенное.
...Мне представляется, что всего труднее будет получить благосклонность Императора, ведь я действительно ничего не сделал, чтобы заслужить ее. Креста он не может пожаловать: чин! На днях должна наступить моя очередь, и, если ничего нового не случится, ты, может быть, найдешь меня поручиком, так как я 2-й корнет, а в полку есть три вакансии. Я даже думаю, что было бы неблагоразумно докучать ему с протекцией, ибо полагаю, что милость ко мне основывается на том только, что я никогда ничего не просил, а это дело для них непривычное со стороны служащих им иностранцев. И, насколько могу судить, обращение со мною Императора стоит сейчас дороже, чем та малость, которую он мог бы мне пожаловать. На последнем балу в Аничкове Его Величество был чрезвычайно приветлив и беседовал со мною очень долго. Во время разговора я уронил свой султан, и он сказал мне смеясь: “Прошу вас быстрее поднять эти цвета, ибо я позволю вам снять их только с тем, чтобы вы надели свои”, а я ответил, что заранее согласен с этим распоряжением. Император: “Но именно это я и имею в виду, однако, коль вам невозможно быстро получить назад свои, советую дорожить этими”, на что я ответил, что его цвета уж очень хороши и мне в них слишком приятно, чтобы спешить их оставить (имелась в виду белая лилия Бурбонов и белый султан российского кавалергарда. — В. Ф.); тогда он многократно со мною раскланялся, шутя, как ты понимаешь, и сказал, что я слишком уж любезен и учтив, причем все это произошло к великому отчаянию присутствовавших, которые съели бы меня, если бы глаза могли кусать.
Из новостей нет ничего интересного, разве приезд господина де Баранта, французского посла (в конце 1835 г. французское посольство во главе с де Барантом прибыло в Петербург. — В. Ф.), который произвел довольно приятное впечатление своей внешностью, а ты знаешь, что в этом-то вся суть; вечером в день его представления ко двору Его Величество спросил, знаком ли я с ним, и добавил, что вид у него совершенно достойного человека...
...Прощай, мой драгоценный друг, целую тебя в обе щеки и желаю счастливого нового года, хоть это и лишнее, ведь я только что прочел в письме сестры, что ты отменно себя чувствуешь ”.
Геккерн пишет Дантесу, что, случись с ним беда, он это не переживет. Геккерн предчувствует беду на расстоянии. Его страхи понятны: молодой человек в Петербурге больше полугода один. Но пока молодой человек в порядке, несет службу, делает карьеру и больше всего дорожит благоволением царя.
И вот 24 декабря 1836 года. Геккерн из Парижа присылает Дантесу письмо с радостным сообщением. Голландский двор наконец признал усыновление. Теперь Дантес — законный наследник имени и состояния Геккерна. Георг Геккерн — таково теперь его официальное имя. Теперь Дантес не только самый модный молодой человек при дворе, но и выгодный жених. Обо всем этом мы узнаем из письма Дантеса от 6 января 1836 года:
“ Мой драгоценный друг, я не хочу медлить с рассказом о том, сколько счастья доставило мне твое письмо от 24-го: я же знал, что Король не станет противиться твоей просьбе, но полагал, что это причинит еще больше затруднений и хлопот, и мысль эта была тяжела, поскольку это дело оказывалось для тебя еще одним поводом для огорчений и озаботило бы тебя, а тебе ведь уже пора бы отдыхать да смотреть, как я стараюсь заслужить все благодеяния. Однако будь вполне уверен, мне никогда не потребовался бы королевский приказ, чтобы не расставаться с тобою и посвятить все мое существование тебе — всему, что есть в мире доброго и что я люблю более всего, да, более всего... ”
Итак, наступил 1836 год. Пушкин, обрадованный разрешением издавать “Современник”, возлагает надежды на журнал и “Историю Петра”. Но надежды не оправдались. Цензурная петля затягивается все крепче. Из-за пародии на Уварова поэт вынужден объясняться с Бенкендорфом. Светская придворная чернь, равняющаяся на самодержца и его клевретов, враждебна. Взявшись за издание журнала, Пушкин вынужден терпеть уколы Булгариных, Сенковских, Полевых. Пушкин переживает душевный кризис. Именно в это время возникают ссоры с В. А. Соллогубом, С. С. Хлюстиным и Н. Г. Репниным, чуть было не кончившиеся дуэлями. Позже Соллогуб утверждал, что поэт в эти месяцы сам искал смерти.
5 февраля 1836 года Пушкин пишет Н. Г. Репнину раздраженное письмо, требуя объяснений по поводу оскорбительных отзывов некоего Боголюбова (человека С. С. Уварова), будто бы исходящих от Репнина. В словах этого письма: “...как дворянин и отец семейства, я должен блюсти мою честь и то имя, которое оставлю моим детям...” — чувствуется оскорбленное самолюбие и смятенное состояние души поэта. И, как мы увидим, дата письма не случайна.
В довершение всего 29 марта умирает Надежда Осиповна, и Пушкин один едет хоронить мать в Святые горы. Там, в Святогорском монастыре, он вносит в монастырскую кассу деньги и покупает себе место рядом с могилой матери. Что происходит с поэтом, что у него на душе?
Дантес Геккерну 20 января 1836 года:
“ Мой драгоценный друг, я, право, виноват, что не сразу ответил на два твоих добрых и забавных письма, но видишь ли, ночью танцы, поутру манеж, а после полудня сон — вот мое бытие последние две недели и еще по меньшей мере столько же в будущем, но самое скверное — то, что я безумно влюблен! Да, безумно, ибо не знаю, куда преклонить голову. Я не назову тебе ее, ведь письмо может затеряться, но вспомни самое прелестное создание в Петербурге, и ты узнаешь имя. Самое же ужасное в моем положении — что она также любит меня, но видеться мы не можем, до сего времени это немыслимо, ибо муж возмутительно ревнив. Поверяю это тебе, мой дорогой, как лучшему другу, и знаю, что ты разделишь мою печаль, но, во имя Господа, никому ни слова, никаких расспросов, за кем я ухаживаю. Ты погубил бы ее, сам того не желая, я же был бы безутешен; видишь ли, я сделал бы для нее что угодно, лишь бы доставить ей радость, ибо жизнь моя с некоторых пор — ежеминутная мука. Любить друг друга и не иметь другой возможности признаться в этом, как между двумя ритурнелями контрданса — ужасно; может статься, я напрасно все это тебе поверяю, и ты назовешь это глупостями, но сердце мое так полно печалью, что необходимо облегчить его хоть немного. Уверен, ты простишь мне это безумство, ибо эта любовь отравляет мое существование. Однако будь спокоен, я осмотрителен и до сих пор был настолько благоразумен, что тайна эта принадлежит лишь нам с нею (она носит то же имя, что и дама, писавшая к тебе в связи с моим делом о своем отчаянии, но чума и голод разорили ее деревни). Теперь ты должен понять, что можно потерять рассудок из-за подобного создания, в особенности если она вас любит! Снова повторяю тебе: ни слова Брею (секретарь баварского посольства. — В. Ф.) — он переписывается с Петербургом, и достало бы единственно го намека его пресловутой супруге, чтобы погубить нас обоих! Один Господь знает, что могло бы случиться; так что, мой драгоценный друг, я считаю дни до твоего возвращения, и те 4 месяца, что нам предстоит провести все еще вдали друг от друга, покажутся мне веками — ведь в моем положении необходимо, чтобы рядом был любящий человек, кому можно было бы открыть душу и попросить одобрения. Вот почему я плохо выгляжу, ведь хотя я никогда не чувствовал себя так хорошо физически, как теперь, но я настолько разгорячен, что не имею ни минуты покоя ни ночью, ни днем, отчего и кажусь больным и грустным.
Мой дорогой друг, ты был прав, когда писал в прошлый раз, что подарок от тебя был бы смешон; в самом деле, разве ты не даришь мне
подарков ежедневно, и, не правда ли, только благодаря им я существую: экипаж, шуба; мой дорогой, если бы ты не позволил ими пользоваться, я бы не смог выезжать из дому, ведь русские утверждают, что такой холодной зимы не было на памяти людской. Все же единственный подарок, который мне хотелось бы получить от тебя из Парижа, — перчатки и носки из филозели, это ткань из шелка и шерсти, очень приятные и теплые вещи, и, думаю, стоят недорого; если не так, посчитаем, что я ничего не говорил. Относительно драпа, думаю, он не нужен: моя шинель вполне послужит до той поры, когда мы вместе отправимся во Францию, что же до формы, то разница с новою была бы так невелика, что не стоит из-за этого утруждаться. Ты предлагаешь мне переменить квартиру, но я не согласен, ибо наилучшим образом и удобно устроен в своей, так что с трудом без нее обошелся бы, тем более что я был бы стеснен, да и ты тоже — ведь кроме постоянных солдат на парадной лестнице, из-за моих поздних приездов и швейцару пришлось бы почти всю ночь быть на ногах, что было бы мне неприятно. Материи, которые ты предлагаешь, принимаю с благодарностью, и это не будет роскошеством, ведь моя старая мебель почти вся изъедена животными; одно условие, что ты сам все выберешь, по той простой причине, что у тебя намного больше вкуса; цвет же не важен — летом придется красить комнату, вот ее и выкрасят в цвет, подходящий к материи.
Я послал Антуана (возможно, слуга Дантеса. — В. Ф.) в деревню: меньше чем за 500—600 рублей не найти дачи, где мы оба устроились бы удобно и в тепле. Подумай, не слишком ли это дорого, и ответь сразу, чтобы я мог распорядиться и все устроить для твоего удобства. Дай мне знать со следующей почтой, получил ли ты письмо некоего господина; позавчера он написал мне еще пачку писем, о которых расскажу тебе в следующий раз. Прощай, мой драгоценный, будь снисходителен к моей новой страсти, ведь тебя я тоже люблю всем сердцем.
Дантес”.
Это то самое письмо, отрывки из которого в свое время опубликовал Труайя. Здесь мы привели его полностью. Конечно же, дама, носящая то же имя, что и Наталья Николаевна, — это графиня Елизавета Федоровна Мусина-Пушкина, урожденная Вартенслебен, умершая 27 августа 1835 года. Дантесу она приходилась сестрой его бабушки по линии матери. Дантес любит и любим. Страсть затмевает ему разум, и он признается в своем чувстве Геккерну, хотя знает, что вызовет ревность. Опомнившись в конце письма, он пытается утешить новоявленного отца: “...тебя я тоже люблю всем сердцем”.
Дантес пишет о “новой страсти”. Вспомним, что в конце ноября предыдущего года он разорвал отношения с “Супругой”. Когда же начался новый роман? Об этом мы узнаем позднее из его же писем.
(Окончание следует.)
Комментарии к статье
*супружеская измена (фр.).
**Словарь-разговорник.
*** Мне скучно. — Это почему? — Здесь стоят, а я люблю сидеть.
**** Из письма Софьи Николаевны Карамзиной брату.
***** Письма Дантеса Геккерну цитируются по русской публикации Серены Витале в журнале “Звезда” (№ 9, 1995 г.) с предисловием Вадима Старка и сверены с их итальянским переводом в ее книге “Il Bottone di Puskin”, Adelphi, 1995. К сожалению, их оригинальный французский текст еще не опубликован.