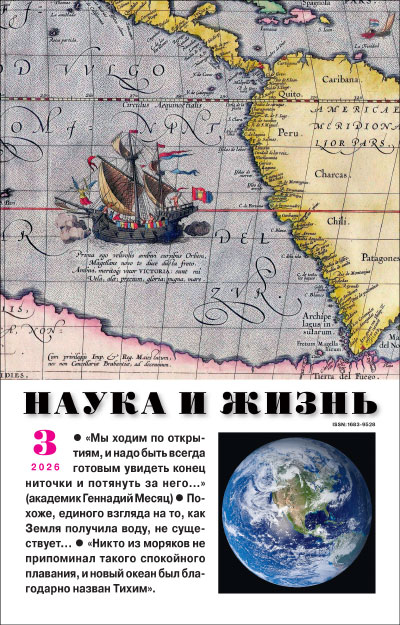Маттео Валлериани: «Менять научные концепции сейчас намного проще, чем во времена Галилея»
Маттео Валлериани – профессор Института истории науки Макса Планка в Берлине, переехавший из Италии в Германию. Гёте-институт в рамках содействия культурному обмену между Германией и Россией привёз профессора в Москву – прочитать лекцию на фестивале «Nauka 0+». Корреспондент «Науки и жизни» Анастасия Субботина выяснила у профессора Валлериани, ради чего он бросил карьеру в Италии, почему Галилею было сложно настаивать на том, что Земля – не центр Вселенной, зачем историкам теория графов и как это вышло, что «издевательства» математиков над простыми смертными имеют оправдание, а «издевательства» философов – нет.
– Профессор Валлериани, почему история науки?
– На самом деле в университете изначально я изучал философию. Но меня всегда интересовала наука, я колебался между математикой и философией. В итоге выбрал философию, но постепенно всё же вернулся к науке – стал изучать философию науки, углубился в математическую логику и вообще работал с математиками. А параллельно ещё слушал курсы по физике.
Так что когда я выпускался из университета, я был занят физикой XX века – 20-е, 30-е годы, начало квантовой механики… Изучал науку того периода с философской точки зрения, с точки зрения вопросов устройства мироздания, его базовых принципов. В какой-то момент я заметил, что мне очень нравится работать с историческими источниками, с набросками и заметками реальных людей. И когда я окунулся в этот мир реальных исторических документов, я понял, что большинство философов теоретизировали о науке, плохо себе представляя, как всё на самом деле устроено, не понимая, что развитие науки абсолютно нелинейно и до крайности зависит от окружающей обстановки.
Вскоре я поехал на стажировку в Берлин, работать с историками науки, и так там и остался, бросил свою работу в Болонье. Я это сделал, потому что решил, что правильней изучать науку по реальным историческим источникам, пусть при этом и двигаешься гораздо медленнее.
Философы науки – они создают большие концепции; говорят, что с такого-то по такой-то момент, например, научно-методологической программой был редукционизм. Мы [историки науки], вместо того чтобы распределять всё по философским категориям, идём «снизу», с исторических документов, и пытаемся понять некие более общие механизмы трансформации человеческого знания как такового. Тут самое интересное, что, возможно, есть некие ментальные модели, которые могут повторяться во времени, и они меняются гораздо медленней, чем меняется сама наука. Это как бы модели производства знания. Может, это своего рода возврат к философии, но через призму истории.
– То есть ментальные модели – это не конкретные научные концепции, а просто образ мышления?
– Да-да, вот именно на таком фундаментальном уровне. Производство нового знания – это не обязательно производство лучшего научного и технологического знания, не обязательно эволюция в положительном смысле. Это просто изменение, и с современной точки зрения оно может быть в лучшую или худшую сторону, но с точки зрения людей той или иной эпохи это всегда именно такое знание, в котором они нуждаются в эту эпоху. То есть мы не даём оценку знанию, мы просто видим, что оно изменяется. И, возможно, на очень абстрактном уровне эти изменения связаны с тем, что мы называем ментальными моделями – заимствуя некоторые понятия из когнитивных наук – и эти ментальные модели, способы производства и соединения фрагментов знания вместе, могут быть гораздо более устойчивыми, чем само знание.
Ментальные модели – они к тому же исторически однообразны, то есть возникают в различных регионах, в различных идеологических контекстах, и, может быть, это и есть то, что роднит развитие науки (или лучше – знания), какой бы регион и какое бы время вы ни взяли. И я не случайно сказал «знания» – мы сейчас всё больше и больше говорим об истории не науки, а именно знания в целом, сближаемся с такими дисциплинами, как культурология, антропология и когнитивные науки.
– Ну а, например, то, что развитие науки происходит скачками, как-то связано с ментальными моделями?
– Думаю, ментальные модели – это другой уровень, гораздо более абстрактный. Ментальные модели не прерываются, даже когда проходят сквозь научные революции; они позволяют нам видеть преемственность. [Как пишет профессор Валлериани в своей книге «Galileo Engineer», такие их свойства становятся очевидными, если подумать о ментальных моделях атома, равновесия или центра тяжести тела – Ред.]
Что касается периодов прогресса и застоя в науке, я думаю, что дело здесь в обстановке. Под обстановкой подразумеваются технологии, экономика, социальные аспекты, стихийные бедствия, войны… Всё это очень влияет, и в самой своей основе развитие науки и технологий в определенный период в определенном регионе – это, на мой взгляд, всегда ответ на текущую ситуацию и на то, меняется ли она, в том числе независимо от человеческой воли. И наука, с одной стороны, зависит от обстановки, но в то же время и сама влияет на нее. Это обоюдные отношения между развитием науки и технологий и развитием обстановки в широком смысле.
Ну и, в конце концов, представьте себе культуру, в которой говорят: «Благополучие есть до тех пор, пока в мире ничего не меняется». «Мы хотим сохранить вещи такими, какие они есть.» Это мир, в котором нет спроса на научное развитие. И нет ничего удивительного, что инвестиции в науку в таком мире сокращаются. Зато в это время, может быть, строят новые церкви или что-то подобное.
– Бесспорно, в такое время в науке вряд ли произойдет что-то интересное. А что происходило в ней в тот период, которому посвящена ваша лекция на Фестивале науки?
– О, это очень большой период, целых четыре века, с XIII по XVII, и очень важный. В это время в Европе сформировалось то, что я называю всеобщая научная идентичность. Я сейчас провожу историческое исследование, в котором хочу показать, как эта идентичность сформировалась, как развивалась, и кто были главные действующие лица.
Источники, с которыми я работаю – учебники, использовавшиеся в первый год обучения в университетах Европы с XIII по XVII век. Их очень много, и тут, конечно, не обойтись без цифровых гуманитарных наук. Но суть в том, что это были фундаментальные научные знания, которые должен был получить любой студент, независимо от того, становился ли он потом медиком, теологом, экспертом по праву или еще кем-то. Все без исключения начинали своё обучение на факультете «свободных искусств» и слушали один и тот же вступительный курс. И это были не «галилеи», а обычные люди – те, кто как раз впоследствии был способен попытаться понять Галилея. Отсюда становится ясно, почему Галилею было столь трудно говорить, что мир устроен по-другому – потому что речь шла не просто об астрономической системе; это была целая культура, где части знания держались друг за друга, и изменить большую часть означало разрушить всю систему.
Важно понять, насколько далеко эта система простиралась географически, так что в России я еще и по работе: собираюсь проверить электронные архивы редких книг в нескольких московских библиотеках, которые согласились мне помочь. Было бы грандиозным открытием найти отпечатанные здесь учебники (хотя бы на латыни) с таким же вступительным курсом космологии.
– Очень интересно. А еще где-нибудь уже искали, может, в Азии?
– По сути, нет. Тут неизбежно сталкиваешься с рядом практических проблем: на каких языках ты можешь читать архивы, переведены ли они у библиотек на иностранные языки, полны ли эти архивы, занесены ли в них редкие книги, отвечают ли библиотеки на твои е-мейлы…
– Вы сказали, что в прежние времена изменение космологии угрожало всей системе. А в современном мире не так? Изменять научные концепции сейчас проще?
– Намного проще, и по вполне очевидной причине. У нас сейчас больше нет холистического мировоззрения. А тогда было, и вот почему так важна была именно космология. Ты должен был начинать с нее, что бы ты ни собирался потом делать; она использовалась, чтобы держать все вместе. Сейчас наше знание фрагментировано. Это не только из-за нарастающей специализации. Подумайте о квантовой механике и теории относительности – микро- и макромире. Они основаны на фундаментальных принципах, которые находятся в противоречии друг с другом. В квантовой механике существуют мгновенные квантовые связи, но в теории относительности предел взаимодействий – скорость света, и не может быть мгновенных причинно-следственных связей. Это же просто огромная нестыковка!
Научный мир сейчас фрагментирован, тебе не нужно изучать физику, если не собираешься ей заниматься. Если вносят изменения в чужую область, тебя это почти никак не затрагивает. Поэтому и вносить их в известной мере легче (хотя по той же причине эти изменения менее контролируемы обществом извне и в каком-то смысле могут быть более опасны). А тогда изменить космологию – ядро – означало пошатнуть политику, медицину с ее лечебными практиками и процедурами приготовления снадобий, ботанику, науку о ландшафте, даже архитектуру… Настоящими препятствиями для новых идей были не авторитет Аристотеля, не инквизиция (хотя, безусловно, они тоже мешали), а холистическое видение мира.
Представьте, например, строительство корабля по старинной методике – скажем, корабля викингов. По старой системе ты учился у своего отца, и ты действительно усваивал, как строить корабль, но ты был не в состоянии даже объяснить это. Если бы пришли инженеры и спросили о каком-нибудь передаточном отношении рычага весла, какие бы отличные корабли ты не делал, ты не мог бы ответить на подобный вопрос. Не просто потому, что ты не знаешь ничего о рычагах, но и потому, что для тебя весла корабля – лишь часть одного большого целого. И когда приходят другие и задают подобные вопросы, они подрывают целое. Для тебя сложнее улучшить корабль, потому что для тебя это означает построить совершенно новый корабль. Они же просто поменяют весельную систему, и корабль пойдет быстрей. Но кто знает, насколько это лучше – может, у них что-то еще пойдет не так.
– Да, от этого никто не застрахован. Вы упомянули цифровые гуманитарные науки, а что это значит?
– О, это очень важное сейчас направление для той области, о которой мы говорим, в первую очередь. Конечно, историю (и, в частности, историю науки) сейчас продолжают изучать точно так же, как и раньше, ну разве что теперь у нас PDF вместо бумажных книг, и не нужно каждый раз ходить в библиотеку, так что это дешевле и проще. Но вместе с тем сейчас у нас появилась возможность ставить новые исследовательские задачи – такие, как моя, например. Масштаб моего исследования – целый континент на протяжении четырех веков. Даже если бы мне помогало много людей, невозможно было бы проработать и сопоставить все соответствующие исторические источники классическим способом. Тут не обойтись без цифровых технологий, если хочешь анализировать подобные объемы данных.
Когда данные собраны, ты должен составить из них семантическую сеть. И затем по этой сети ты можешь вычислить – в прямом смысле, используя математику, – где знание изменялось, кто его изменял, куда оно распространялось, и попытаться выяснить, почему, собственно, так происходило. Но прежде чем ты сможешь все это вычислить, до этапа сетевого анализа нужно еще добраться.
– То есть нужен какой-то специфический алгоритм?
– Вероятностные алгоритмы для интеллектуального анализа текста, тематического моделирования, чтобы можно было с помощью них обрабатывать тексты и изображения старинных книг. А для сетевого анализа нам нужна теория графов. Но проблема в том, что у нас до сих пор нет математической модели (и я сейчас усердно над этим работаю), которая бы хорошо подходила для описания истории письменности – такой, например, которая содержит переменную времени в качестве внутренней переменной модели. Динамика моделей, которые мы на данный момент используем для сетевого анализа, лично я считаю неподходящими для работы историков. Поэтому нам надо работать с математиками.
Кстати, мне придется покинуть Фестиваль раньше, поскольку на следующей неделе у меня воркшоп в Будапеште, на котором математики и историки будут работать вместе. Я нашел там экспертов по теории графов, которые готовы послушать историков – это нетривиальный случай. [смеется]
– Это очень любопытно. Междисциплинарность сейчас общая тенденция.
– Несомненно. Содержание наших дисциплин меняется так быстро, что мы просто сметаем границы. И я думаю, что импульс в значительной степени исходит именно от истории науки, так как она по определению междисциплинарна: нам нужны ученые, историки, философы, математики, социологи, антропологи и так далее; в противном случае мы не можем изучать науку так, как сегодня это принято делать.
– А все же позволила ли математика выявить какие-то универсальные закономерности развития науки?
– Пока что судить о подобных вещах рано – мы до сих пор не имеем четкого понимания, как манипулировать нашими данными. Мы используем эвристический метод, и остается вопрос – имеет ли наша модель онтологическую ценность, отражает ли она реальный процесс на самом деле? Это было проблемой во все времена: гелиоцентрическая система Коперника использовалась на протяжении 80 лет в качестве математической модели для точного вычисления позиций планет, прежде чем появились такие, как Галилей, и смогли привести доказательства, что это не просто модель, что у нее есть онтологическая ценность.
Возможно, мы сейчас в такой же ситуации. Мы пользуемся подходами цифровых гуманитарных наук, и пока не понимаем, что за математика стоит за ними. Но если мы постигнем эту математику и разовьем ее лучше, может быть, в один день мы в состоянии будем сказать: «Да, развитие наших знаний в прошлом следует определенному закону». Закону, который мы можем описать математически. Но это большой вопрос, и на него не будет ответа в течение моей жизни уж точно.
Однако как только у меня будет убедительная математическая модель процесса, который я изучаю, разумеется, первое, что я сделаю, так это применю ее к другому историческому периоду. Может быть, это сделаю уже не я, а кто-то другой. Но это, несомненно, самая захватывающая сторона вопроса – потому что это ведь глубоко философская сторона, – удастся ли найти математическую модель, которая работает во многих разных случаях.
– Да, философия вообще исторически тесно связана с научным поиском. Хотелось бы заодно поговорить вот еще о чем: что, на ваш взгляд, стало с философией после того, как наука из нее полностью выделилась?
– О, это опрос с подвохом! [смеется] Поскольку я пришел из философии и, в то же время, мое отношение к ней становится все более и более неоднозначным. Безусловно, философия – это обширная область, и все еще зависит от того, что конкретно мы обсуждаем. Но, я боюсь (подчеркну, что это мое личное впечатление), что современная философия имеет гораздо меньше отношения к реальной жизни и к обществу, чем в прошлом.
Я действительно скептически настроен по отношению к работам современных философов. Не уверен, как обстоят дела в России, но в США и Европе университетские кафедры тотально оккупированы теоретиками аналитической философии. Я правда не знаю, каким образом то, что они пишут, может быть полезно. Это группа, которая решила уйти из города, чтобы предаться беседам под деревом, но, в отличие от героев Боккаччо, больше никогда не возвращаться. [В знаменитом «Декамероне» Боккаччо группа интеллигентных молодых людей уезжает из Флоренции, чтобы переждать разразившуюся там эпидемию чумы в загородной вилле за приятным общением.] Они ищут смысл жизни, но у меня такое впечатление, что их «слово» исключительно для них же самих, соотносится только с самим собой, и что они не читают ничего, кроме других таких же теоретиков аналитической философии. И весьма неясно, в чем вообще толк.
– Вы имеете в виду, что аналитическая философия не имеет никакого приложения к реальности?
– Дело даже не в приложениях, я не могу найти никаких источников вдохновения в ней. Иногда читаешь что-нибудь, и возникают ментальные ассоциации. Даже если ты читаешь стихотворение, это может быть плодотворным для твоего математического проекта, потому что там есть что-то, что стимулирует ум. Но теоретики аналитической философии… У них специфический язык, способ выражения мыслей, они разработали специальную терминологию, они изолировали себя!
– Но ведь математика тоже развила специфический язык. С ней тоже происходит что-то похожее?
– Я не уверен, что математика действительно изолирует себя. Математика сейчас везде; для меня это демонстрация того, что она не изолирована. Да, есть «чистая» математика, где люди разрабатывают совершенно новые вычислительные системы, но есть и захватывающая философская идея, что эти системы в один день могут обрести материальное значение. Именно так ведь вышло с идеями Эйнштейна – в какой-то момент геометрия Римана, которая до того была больше похожа на игру, внезапно стала полной смысла геометрией, которая описывает наше пространство.
Другое дело, что сегодня не только математика, но и наука вообще – больше не часть общей культуры. Научные дисциплины так далеки друг от друга, ты можешь войти лишь в специфические узкие области этого знания, и то, если ты усердно специализируешься. Как вернуть потерянную связь между людьми и наукой (ведь только так мы сможем добиться демократического использования научных знаний)?
Это главный вызов для гуманитарных наук и, конечно, для историков науки в первую очередь. Мы лучше всего понимаем науку, так сказать, извне, и наша моральная обязанность – смотреть в прошлое и искать там «мост» в настоящее. Гуманитарные науки в целом – то, что должно соединить науку и технологии между собой и с общей культурой. И единственный способ это сделать – найти способ перевода сложного языка научного знания в язык следствий этих знаний. Но это очень непростая и нетривиальная задача, и я не вполне уверен, о чем говорю.
– Как вы считаете, изучение науки может как-то улучшить саму науку?
– Да, это как раз касается наведения «моста» между наукой и обществом. Если ученые исторически осведомлены, они в состоянии лучше объяснить, что они делают, в первую очередь, себе самим. У них становится больше моральной ответственности за свою работу. Ученый, скрытый ото всех в лаборатории – ничего хорошего. Он должен быть в контакте с обществом.
Взять хотя бы генетику – ее возможности сегодня пугают многих. Но я совершенно не согласен с людьми, которые предлагают запретить эти исследования. Просто они должны проводиться на общественные деньги, а не частные вложения, и деятельность ученых должна быть абсолютно прозрачна, результаты исследований должны быть в открытом доступе. Тогда нам нечего будет бояться.
Нельзя остановить исследования: если попытаться это сделать, их будут проводить «в гараже на коленке». Возможно, было бы и вовсе нехорошо их останавливать, есть множество причин стремиться развивать наши знания в области генетики. Но как использовать их в будущем – это решение мы должны принимать вместе.
– А как вы думаете, что вообще ждет науку в будущем?
– О, на подобные вопросы очень опасно отвечать, ведь так легко совершить ошибку и прослыть за «гуру»… [смеётся] Но, думаю, будущее науки определенно лежит в плоскости наук о жизни. Идеи, которые придут из наук о жизни, из генетики, молекулярной биологии, позволят нам лучше понять физику – классическую механику, астрономию, космологию... С новыми идеями мы возвратимся к другим, казалось бы, неродственным дисциплинам, и все они станут очень связаны. И у нас будет более «органическое» мировоззрение, это будет как бы отказ от представления о мире как о машине и принятие идеи мира как живого существа.