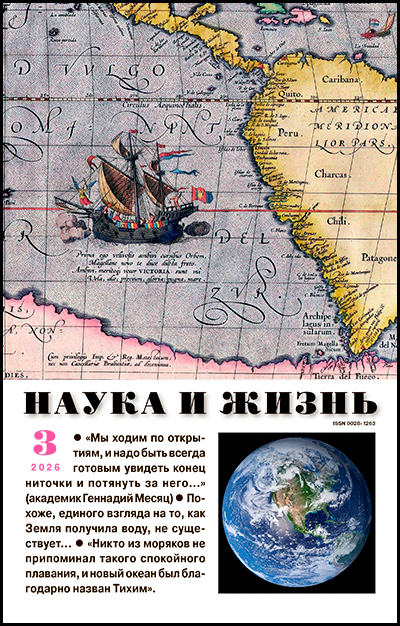Все ученики должны уметь на пяти страничках «раскрыть» тему, которая вынесена в заголовок и которую грибо-едоведение не сумело исчерпать за полтора века своего существования.
«Горе от ума» школьники знают досконально: ведь все они писали сочинения «Образ Чацкого (Софьи, Молчалина и пр.)», все научились отвечать на вопросы типа «Что сделала Софья, увидев падение Молчалина с лошади?
а) подняла его;
б) рассмеялась;
в) упала в обморок;
г) заиграла на фортепьяно».
И все выросли в уверенности, что великая пьеса изучена, пройдена, понята — и отныне её можно забыть. Потом мы встречаем знакомых героев разве только на театральной сцене, где замысел автора целиком подчинён режиссёрским вдохновениям, а персонажи — актёрским трактовкам ролей. И всё это прекрасно. Но и школьная программа, и театр равно занимаются интерпретациями того, что хотел сказать Грибоедов. И не задаются вопросом, что он действительно сказал.
Грибоедов рисовал биографии и взгляды героев едва заметными штрихами, через мелкие детали и ассоциации. Современники понимали его с полуслова, но последующие поколения утратили эти знания — а вместе с ними свежесть восприятия гениального произведения. Если же оживить затёртые стандартами и штампами образы и конфликты, они вдруг обернутся неожиданными сторонами, станут по-новому интересными и близкими нашему времени.
Сочинение первое: «Женские образы в ″Горе от ума″»
Лиза
Действие пьесы начинается утром, «чуть день брежжится». В ноябре—декабре на широте Москвы солнце встаёт между половиной восьмого и началом девятого (по солнечному времени) — столько и должны показывать большие часы в гостиной, вокруг которых строятся первые явления. День серый, мрачный, поскольку утром Чацкий упомянул «ветер, бурю» и вечером Хлёстова жаловалась на «светапреставленье». Все эти выкладки важны только ради объяснения одной фразы Лизы: на вопрос Софьи «Который час?» горничная отвечает: «Седьмой, осьмой, девятый». Её реплика обычно смущает комментаторов и актрис, не знающих, что автор имел в виду: Лиза врёт на ходу, чтобы поторопить барышню, или отвечает наобум, а потом справляется с часами, или автор просто не совладал со стихотворным размером и перебирал слова без толку?
А между тем эта реплика и есть по-чеховски предельно лаконичное указание Грибоедова на характер Лизы! Горничная не врёт — час именно девятый, раз уже светает; наобум Лиза назвала бы именно его (она же видит рассвет). Сперва она пытается ответить, со своей точки зрения, исчерпывающе: «Всё в доме поднялось», но повторно спрошенная о часе, бросается к часам и высчитывает расположение стрелок: маленькая стрелка в самом низу — седьмой, это точка отсчёта, а далее по пальцам «осьмой, девятый». Так считают дети, так считают полуграмотные слуги. В этом-то суть реплики. Лиза не разбитная горничная, она простая девушка, хотя одевается наверняка в барышнины платья, которые Софья надевала не более трёх-четырёх раз. Она вздыхает о «буфетчике Петруше», лице в доме очень значительном: в обязанности буфетчика входили выбор и заказ дорогих вин, пряностей, чая, ведение расходов по кухне, владение деньгами или улаживание дел с поставщиками. Брак двух высокопоставленных слуг обещал им обеспеченную жизнь, возможность выкупиться к старости на волю или просто получить вольную и увидеть своих детей и внуков свободными. Для этого им не требовалось проявлять инициативу, а только плыть по течению. Поэтому и грамоте Лиза особенно не училась и считает по пальцам — зачем ей знания?
Конечно, она понимает всю глубину трагической зависимости крепостных:
Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь, —
но активно бороться за свою свободу не хочет или не умеет.
Софья
Во вводной ремарке указано, что дверь справа ведёт в спальню Софьи, откуда героиня потом выходит с Молчалиным. Этот выход очень повредил Софье в глазах многих критиков. Пушкин отозвался о ней в выражениях, которые принято пропускать в печатном тексте. Гончаров, напротив, увидел в ней «задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости». Однако роль Софьи обычно не привлекает актрис, представляется неопределённой и невыразительной. Тут, к сожалению, отдалённость грибоедовской эпохи встала непреодолимым препятствием для понимания сути образа.
Спальня Софьи расположена за дверью, но не прямо за нею. Нельзя представлять, что она сидела с Молчалиным у раскрытой постели! Ведь в той же первой ремарке сказано, что слышны звуки фортепьяно и флейты. Но фортепьяно предполагает возможность пригласить подругу, учителя или хоть настройщика. А в спальню молодой девушки доступ закрыт всем, кроме матери, няни или гувернантки, если они есть, служанки, врача в случае очень тяжёлой болезни и любовника, если на то её воля. Но у светской девушки есть кроме спальни комната-кабинет, где она принимает подруг, портних, парикмахера, учителей, даже иногда молодых людей (в юности — под присмотром матери или гувернантки, в более зрелые годы — сама).
Конечно, даже у старой девы нельзя было бы провести ночь без риска скандала. Но всё же Софья могла пригласить Молчалина к себе, не особенно отступая от норм девичьей стыдливости, а уж сделать шаг в собственно спальню следовало ему — он его не сделал, но для первого свидания Софья осталась довольна. Это, бесспорно, её первая встреча с Молчалиным, так как она приказала Лизе караулить за дверью («Ждём друга». — Нужен глаз да глаз…). У доверенной горничной имелась где-то собственная кровать или скорее даже комнатка; если бы она слишком часто спала в креслах у двери барышни, это могло в конце концов заинтересовать других слуг и самого барина: с чего бы это?
Каким же характером надо обладать барышне, чтобы принимать у себя мужчину со страшным риском для репутации и всего будущего? страстностью? тягой к опасности? Грибоедов рисовал значительно более необычный образ. На это указывают те же самые слова ремарки: «слышно фортопияно с флейтою». Естественно предположить, что Софья играет на фортепьяно, а Молчалин подыгрывает на флейте. Однако Фамусов без всякого волнения замечает, что
То флейта слышится,
то будто фортопьяно;
Для Софьи слишком было б рано?..
Он взорвался бы от ярости и снёс дверь, если бы предположил, что на флейте в комнате дочери играет не она, а кто-то другой. Однако отец не удивлён — значит, Софья умеет хоть немного играть на флейте. Это — ярчайшая авторская характеристика! Флейта — чисто мужской музыкальный инструмент, барышень никогда не учили играть на флейте! У Софьи нет братьев, так что она училась флейте не из подражания, она сама должна была потребовать инструмент и учителя.
Это, конечно, не переодевание в мужское платье, не уход в гусары, подобно кавалерист-девице Надежде Дуровой, но всё же проявление незаурядного характера. Рано лишившаяся матери и даже гувернантки, избалованная как единственная дочь и наследница, Софья привыкла быть хозяйкой в доме. Она нередко оставалась одна, когда отец уезжал днём на службу или вечером в Английский клуб.
В своём стремлении к независимости и пренебрежении приличиями Софья впадает в прямую грубость, и ядовитая реплика графини-внучки совершенно заслуженна: как хозяйка дома она обязана была встречать гостей, а не предоставлять им занимать друг друга. По пути к независимости Софья продвинулась недалеко: играет на флейте и сама хочет выбрать себе мужа. Актрисам следовало бы придавать манерам Софьи некоторую мальчишескую свободу или резкость, в духе Шурочки Азаровой из «Давным-давно» А. Гладкова, более известной по «Гусарской балладе» Э. Рязанова, только без романтического ореола. Софья, например, говорит о себе, что «не труслива», хотя барышне не полагалось гордиться храбростью. Представьте Шурочку Азарову в последней сцене с Молчалиным, Чацким и Фамусовым — и вы поймёте, что имел в виду Грибоедов.
Сочинение второе: «Молчалины блаженствуют на свете…»
Образ Молчалина обычно не вызывает вопросов, хотя, если вдуматься, кажется непонятным: зачем он сидит без слов и без движения в спальне героини и зачем оказался там вопреки своей воле, страхам и равнодушию к Софье? Кто он — дурак, растяпа или просто не мужчина? Биография Молчалина легко вырисовывается, но Грибоедов растянул её на всю пьесу, чтобы интерес зрителей к нарочито бледной фигуре не угас совершенно. Не покажи он его на рассвете с Софьей, никто и не обратил бы на него внимания. Молчалин родился в Твери, ничего не унаследовал от отца, зато показал себя «деловым» человеком, то есть, согласно терминологии тех лет, человеком, разбирающимся в тонком искусстве служебной переписки (в отличие от «дельного» человека, готового к истинным свершениям). Фамусов каким-то образом познакомился с отцом Молчалина (наверное, в эвакуации из Москвы, потому что иначе их пути едва ли бы пересеклись) и после войны, когда отстроился, взял молодого человека к себе. Но, конечно, не личным секретарём, как иногда изображают в спектаклях: личных секретарей имели лишь высшие сановники, в обычных домах эту роль играли бедные родственники или доверенные слуги
(у Фамусова — Петрушка).
Молчалин состоит секретарём в департаменте Фамусова, при этом «числится по архивам», то есть служит ради чинов без жалованья, а работает у Фамусова: так разрешалось, если на месте реальной службы не было вакансий. Живёт он в доме начальника не столько из стремления «подслужиться», но и просто потому, что многоквартирных домов в Москве, в отличие от Петербурга, почти не было. Ясно, что ещё год-другой, и он найдёт себе покровителя (или покровительницу) выше рангом, чем Фамусов. Он уже имеет чин асессора, то есть 8-й, ещё на один класс Фамусов может его поднять, но не более.
Правда, слишком далеко Молчалин не пройдёт. В России начала XIX века не всякий желающий мог подличаньем и искательством достичь высших постов.
Волочась за Лизой и встретив не столь уж резкий отпор, Молчалин пытается соблазнить её невесть где приобретёнными подарками, расписывая их, словно приказчик галантерейной лавки:
Помада есть для губ,
и для других причин,
С духами сткляночки:
резеда и жасмин.
Ни галантерейная лексика, ни сама идея соблазнения дорогими вещицами (почему бы тогда денег не предложить?) не типичны для сколько-нибудь приличного и воспитанного человека. Повеса пушкинско-грибоедовского круга в крайнем случае применил бы власть над крепостной девушкой и даже силу, но только не подкуп. Такой приступ выдаёт провинциала невысокого происхождения. А в российской системе управления худородные провинциалы почти не имели шансов занять высокие государственные посты. Исключения, конечно, бывали, но относились лишь к фаворитам императоров, каким Молчалину явно не стать. Самое большее, на что он может рассчитывать в будущем, — это пост вице-губернатора где-нибудь в провинции и, под старость, сенаторство в Москве. Сомнительно и то, что он сумеет найти богатую невесту: большое приданое требовало в обмен хорошее имя, чем Молчалин не может похвастаться.
Отсутствие родственных связей, использование которых в те времена считалось не позором, а важной привилегией дворянства, завоёванной для них поколениями предков, вынуждает его искать им замену в виде протекции влиятельных лиц. Чувство собственного ничтожества — единственное, что завещал ему отец, и он прекрасно понимает суть полученного наследства. До тех пор, пока живёт с Фамусовым, он считает своим долгом угождать ему и его домочадцам, вплоть до того, чтобы развлекать ночами его дочь, но не доводя эти свидания до той стадии, когда девица уже не сможет их скрыть и он обязан будет жениться.
Ведь жениться на Софье Молчалин никак не может и ни за что не захочет! Этот брак не принёс бы ему продвижения по служебной лестнице, напротив, оно затормозилось бы. Ему на всю жизнь пришлось бы остаться в Москве в незавидной архивной службе и мечтать лишь наследовать со временем должность Фамусова.
Чацкий восклицает: «Молчалины блаженствуют на свете!» Но сила Молчалина не в лицемерии, а... в искренности! Его потому и невозможно разоблачить, что разоблачать нечего: он ничтожен, но не хитрит, не интригует, он просто живёт по отцовским заветам повиновения младших высшим, что в его время считалось нормой и соблюдалось всеми, кроме самых решительных молодых людей. Он не лицемерит сознательно, за исключением ухаживания за Софьей: в этом — и только в этом! — он разоблачён автором. Грибоедов обличает в нём не ничтожность мелких проходимцев, но российскую государственную систему, которая охотнее выдвигает бесталанных прислужников, а не людей с умом и душой.
Сочинение третье: «Моё отношение к Скалозубу»
Биография полковника Скалозуба выписана досконально: он выходец из Малороссии, куда явно отсылает его фамилия, и «золотой мешок», но род и состояние его новые, потому что ни один представитель древних фамилий и ни один богач не отдал бы сына в армейскую пехоту, минуя Пажеский корпус и гвардию. Большинство дворян служило если не в гвардейских полках, то в кавалерийских, на худой конец — в конно-егерских, на крайний случай — в артиллерии. Скалозуб же всю жизнь служил в мушкетёрах или егерях и сделал не такую уж хорошую карьеру.
Он вступил в армию в 1809 году, видимо, лет пятнадцати или шестнадцати, как было принято; к 1823 году стал полковником и метил в генералы. Такую выслугу могли бы счесть вполне приличной, если бы не война: в кампанию 1812—1814 годов продвижение офицеров шло гораздо быстрее, потому что чаще освобождались вакансии из-за гибели старших по званию. Скалозуб отличился на войне очень мало: в окончательном варианте Грибоедов оставил ему только одну награду — «за третье августа». В комментариях к этому месту неожиданную оплошность допустила выдающийся историк М. В. Нечкина и надолго испортила репутацию Скалозуба, указав, что в этот день ещё продолжалось перемирие и, следовательно, Скалозуб с братом сидели в траншее во время показательных маневров и штабными происками получили награды. Это бы очень дурно характеризовало полковника, но его двоюродный брат отмечен автором как передовой человек, который «службу вдруг оставил, // В деревне книги стал читать», — Грибоедов явно не собирался его унижать.
В рассуждения Нечкиной просто вкралась путаница между новым и старым стилем. Хотя боевые действия проходили в Европе, по общему правилу, находясь в Москве, следовало называть даты по русскому стилю, находясь за границей — по европейскому.
Современникам Грибоедова, пережившим войну, к словам Скалозуба не нужны были пояснения: 3 августа 1812 года боевых действий не было, после сражения при Красном 2 августа русская армия передислоцировалась в район Смоленска до 4 августа. А вот 3 (15 по европейскому стилю) августа 1813 года Силезская армия, половину которой составляли русские войска, первой двинулась на французов после длительного летнего перемирия. Ей не оказали почти никакого сопротивления, потому что Наполеон сосредоточил все силы против Богемской армии у Дрездена. Наступление 3 августа было просто отвлекающим маневром, и то, что Скалозуб отличился в этот день, а не в дни великих битв Бородина, Кульма, Лейпцига, свидетельствовало не то чтобы об отсутствии у него храбрости (едва ли Грибоедов хотел изобразить труса, слишком нетипичного в его кругу), но об отсутствии инициативности — в более важных сражениях его отодвигали на задний план быстро думающие и действующие офицеры.
Скалозуб отличился вместе с двоюродным братом, о котором Фамусов спросил: «Имеет, кажется, в петличке орденок?» Но Скалозуб поправил, оскорбившись: «Ему дан с бантом, мне на шею». До 1828 года только одну награду Российской империи носили с бантом из орденской ленты: орден Владимира 4-й степени с бантом. В отличие от Владимира той же степени в петлице, орден с бантом можно было заслужить исключительно на поле боя за личный подвиг и никак иначе. Такой орден во время войны вручался довольно часто, зато в мирное время получить его было абсолютно невозможно, и он пользовался большим уважением, уступая только Георгиевскому кресту. «На шее» же (то есть только на шее, без дополнительной звезды и ленты) носили орден Анны 2-й степени или орден Владимира 3-й степени. Скалозуб равнó мог получить одну из этих наград. Они считались почётными, но вручали их не только за воинские подвиги, но и за всевозможные заслуги. Так что награда Скалозуба хотя степенью выше, чем у его брата, но менее ценна в глазах военных. Зато исполнительность и безынициативность полковника пришлись кстати в аракчеевские времена с их бессмысленной муштрой и мучением солдат в военных поселениях. Грибоедов это старательно подчеркнул. Скалозуб служил в сорок пятом егерском полку, который существовал в действительности, и в 1819 году был направлен в Кавказскую армию. Истинный карьерист был бы рад такой удаче: на Кавказе чины шли быстро. Но полковник Скалозуб понимал, что главнокомандующий Кавказской армией знаменитый генерал А. П. Ермолов его не оценит, предпочитая решительность и быстроту мышления. Неудивительно, что Скалозуб остался в России, в пятнадцатой дивизии, в мушкетёрском, отнюдь не первостепенном, полку.
По данным исследования историка Д. Г. Целорунго, в егерских полках периода Отечественной войны 67,5% офицеров умели только читать и писать! Ни в одном другом роде войск дело с образованием не обстояло столь плохо. Странно ли, что Скалозуб, одетый в простой, без всяких украшений, пехотный мундир, питает неприязнь, замешанную на зависти, «к любимцам, к гвардии, к гвардейцам, к гвардионцам». Их шитые золотом мундиры, конечно, привлекали барышень, но не менее привлекали их некоторая начитанность, умение хоть несколько говорить по-французски и танцевать: например, в Свите (душе и мозгу армии) французским владели 100% офицеров. Как пехотинец, Скалозуб, видимо, едва умеет ездить верхом, недаром с такой радостью он приветствует падение с лошади Молчалина и рассказывает о падении княгини Ласовой. Вероятно, Грибоедов нарочно вставил этот анекдот, лишний в действии, но характеризующий Скалозуба, ибо хороший наездник просто не стал бы обращать внимания на неудачи других.
В московском обществе полковник должен был чувствовать себя неуютно. Наиболее уважаемое лицо на балу — старуха Хлёстова знакомится с ним сидя, что Грибоедов выделяет с нажимом ремаркой, и откровенно издевается над трёхсаженным удальцом, спрашивая: «Вы прежде были здесь... в полку... в том... в гренадерском?»
Запинается она не от робости (с её-то характером!), не от незнания форменных отличий — мундиры основных и знаменитых полков были известны всем. Насмешка в том, что в гренадеры набирали молодцов, как и Скалозуб, высокого роста с зычным голосом, но это касалось только солдат! Если какой-нибудь малорослый шепелявивший дворянин хотел вступить офицером в гренадерский полк, никто не мог ему в этом отказать. Хлёстова словно спрашивает: не из рядовых ли вы, батюшка, выслужились? И полковник отвечает, пытаясь басом и пышными словами придать величие тому, что само по себе мало величественно:
В его высочества, хотите вы сказать,
Ново-землянском мушкетёрском.
Впрочем, полковник получит своё генеральское звание как награду за преданность казарме и фрунту. Но, как и Молчалин, Скалозуб не поднимется слишком высоко. Малограмотность среди полковников встречалась как исключение, среди генералов она сводилась к нулю.
Сочинение четвёртое: «Московское барство в ″Горе от ума″»
Фамусов
Почему же Фамусов так увивается за малограмотным полковником малоизвестного полка? так явно прочит ему Софью? Скалозуб богат, но и Чацкий не беден. Чацкий имеет то ли 300, то ли 400 душ — отличное имение по меркам Москвы. Наталья Дмитриевна говорит, что Чацкий не богат, но её реплику можно трактовать по-разному (например, желание из чистой вредности лишить княжон возможного жениха или, напротив, отомстить Чацкому за предшествующий разговор). У друга Грибоедова Степана Бегичева, например, имелось 200 душ нераздельно с братом, а он как раз в пору создания «Горя от ума» без труда нашёл богатую невесту, причём женился не по расчёту на купчихе-вдове, а по любви на благородной девице.
Правда, Чацкий «оплошно» управляет своим имением, то есть, видимо, по примеру многих молодых мыслителей, перевёл крестьян с барщины на оброк и тем сократил свои доходы; он, кроме того, «отъявлен мотом, сорванцом», но всё же Фамусову не следовало бы ему так резко отказывать, пока судьба Софьи не решится. Ведь Фамусов не богат: он служит «управляющим в казённом месте»; такую должность мог занимать только чиновник 5-го класса «Табели о рангах», то есть статский советник. Этот чин был вполне приличен для ухода на покой; при отставке Фамусов получил бы, как принято, следующий ранг и стал бы именоваться действительным статским советником. Чины в Москве значили сравнительно немного, и служить дальше ему нет смысла, однако он не выходит в отставку, значит, держится за жалованье, а ещё более за всякие выгоды, связанные с должностью. Он не просто не богат, он в огромных долгах — потому-то четыреста душ Чацкого его не спасут, ему необходимы две тысячи душ и наличные деньги.
Конечно, Скалозуб, если бы женился, не стал бы оплачивать долги тестя, но он поддержал бы его кредит. Разорение Фамусова пока незаметно. Даже его свояченица Хлёстова недоумевает, зачем ему дался этот громогласный «фрунтовик». Но один человек знает положение дел, может быть, лучше самого Фамусова — Молчалин, который живёт в доме несколько лет, воочию наблюдает давку кредиторов в передней и, возможно, даже улаживает конфликты с ними. Неудивительно, что Молчалин не хочет жениться на Софье и не хочет её и себя компрометировать. Ни по службе, ни деньгами брак с нею не может принести ему никаких выгод. Софья мечтает о несбыточном: ей никогда не выйти замуж за Молчалина не только потому, что этого не захочет её отец, но и потому, что этого не захочет её избранник.
Семейство Тугоуховских
Князь Тугоуховский остался недооценённым в сценографии. Актёры в погоне за внешней эффектностью образа неизменно изображают его дряхлым комичным старцем. Однако во времена и в кругу Грибоедова были бы совершенно невероятны насмешки не над консервативными убеждениями, а над возрастными немощами представителя старшего поколения. Глухота князя скорее популярный и описанный в мемуаристке способ избавиться от окружающих, чем признак дряхлости. Так, некий князь Н. С. Вяземский совершенно не слышал своих кредиторов, зато прекрасно слышал тех, кто возвращал деньги ему. И князь Тугоуховский покорно слушает приказы жены, но игнорирует реплики старой графини.
Даже если он впрямь глуховат, то отнюдь не стар, так как его дочери — все шесть княжон — ещё юны. Будь старшие из них в критическом возрасте, когда надежды на брак постепенно тают, их мать не привередничала бы, выспрашивая о средствах и чинах Чацкого, а старалась бы любой ценой зазвать его на свои вечера. В Москве не пренебрегали даже последним увальнем и бедняком хорошего рода. Разборчивость княгини косвенно указывает на возраст её дочерей, а следовательно, отчасти и на возраст мужа. В Москве все знали семью князя П. П. Шаховского, всех шестерых дочерей которого вывозили скопом. Они были очень милы, шумны и веселы, но едва различимы, подобно тому, как, на взгляд стороннего взрослого, малоразличима стайка девиц, хохочущих у ворот школы. Но в каком театре найдутся шесть юных актрис, не жаждущих во что бы то ни стало выделиться?!
Сочинение пятое: «Век нынешний и век минувший»
Фамусов традиционно воспринимается как представитель старого, отжившего крепостнического мира. Уже Гончаров ставил знак равенства между ним и екатерининским вельможей дядюшкой Максимом Петровичем. Но исторически это совершенно неверно.
В 1823 году Фамусову, как отцу семнадцатилетней дочери, могло быть лет сорок пять — пятьдесят, поскольку мужчины женились в XIX веке около тридцати лет. Следовательно, родился он примерно в 1775 году. Он принадлежал совсем не к екатерининскому, а к совершенно особому поколению — поколению, которое в ранней юности, до поры свершений, пережило самый жестокий крах, когда-либо выпадавший на долю людей, — крах веры в Разум. Это поколение воспитывалось в духе идей Просвещения, в уверенности, что мир разумен, что все его недостатки можно и нужно исправить, что это непременно произойдёт. Это поколение приветствовало начало Великой Французской революции, но в 1794 году до России дошла весть о якобинском терроре, более ужасная, чем весть о казни короля. Разум, утверждаемый насилием, обернулся своей противоположностью. Глубокое разочарование в прежних идеалах подорвало силы молодых людей.
Фамусов принадлежал к поколению, для которого отказ от борьбы, от свершений, от потрясений стал осознанным и выстраданным выбором. И вот в 1820-е годы разочарованные отцы увидели, как молодое поколение одушевляется теми же самыми, почти не переменившимися надеждами, читает тех же французских просветителей, пытается действовать в том же направлении... Отцы были уверены, что стремления их детей ни к чему хорошему не приведут, хуже — дети погибнут, пытаясь воскресить давно почившие идеалы. Удержать их — вот задача умудрённых горьким опытом пожилых. Но отцы ставили молодым в пример не себя — им самим редко было чем похвалиться, — а предшествующее поколение — дедов, которые не знали колебаний и сомнений, служили государю, выходили в чины, жили счастливо и умирали, окружённые общим уважением.
Однако молодые их не слушали. И Чацкий в этом не одинок, а наоборот, очень типичен. Грибоедов дал ему довольно сложную биографию. Чацкий воспитывался вместе с Софьей, потом, достигнув возраста самостоятельности, то есть восемнадцати лет, «съехал» от Фамусова, но жил в Москве и «редко посещал» его дом. За три года до начала действия, то есть в 1819—1820 годах, уехал из Москвы. Таким образом, он был приблизительно ровесником века и не мог участвовать по молодости лет в Отечественной войне. Грибоедов сделал его не своим сверстником, а отнёс к младшему поколению, чувствовавшему некоторую неполноценность оттого, что просидело за партой все боевые годы.
Он вступил в кавалерию, да и не мог не вступить, насмотревшись на блестящих гвардейцев в сезон 1817—1818 годов, когда двор пребывал в Москве; с ними он, как студент, не мог ни в чём соперничать и поэтому весь тот год чувствовал униженность своего положения («Но кто б тогда за всеми не повлёкся?»). Затем последовал «польский период» его жизни, к которому относится его «с министрами связь», поскольку министры существовали кроме Варшавы только в Петербурге, где, конечно, юноше было бы намного труднее обратить на себя внимание. Чацкий явно имел польских предков: на это прямо указывает его фамилия, редкая, но известная в Польше. Он, конечно, русский дворянин, но происхождение ведёт из Польши, как и сам Грибоедов.
Служил Чацкий недолго, с министрами у него произошёл «разрыв», после которого он вздумал путешествовать. Из трёх лет, проведённых вне Москвы, на путешествия у него остался от силы год. Поездки за границу требовали больших расходов, но не на проживание, порой более дешёвое, чем в России, а на путевые издержки. Тратить огромные деньги на дорогу ради короткого пребывания в Европе было невыгодно, поэтому заграничные путешествия длились обычно не меньше года. Едва ли Чацкий мог выкроить на это время.
Наиболее вероятно, что после отставки молодой человек съездил летом на входящие в моду Кавказские Минеральные Воды, а потом отправился в Петербург, где, подобно юному Грибоедову, занялся сочинительством, причём стал известен даже Фамусову («славно пишет, переводит»), отнюдь не охотнику до литературы. Из Петербурга герой и прибыл в Москву. Это кажется совершенно несомненным не только потому, что «вёрст больше седьмисот» — общеизвестное расстояние между обеими столицами, но и потому, что только по главному почтовому тракту страны можно было пронестись за сорок пять часов. Даже по гладкому санному пути такая скорость чрезмерно высока — тем более что была буря, — но всё же она достижима, если давать огромные чаевые ямщикам и смотрителям.
Мог ли такой пылкий молодой человек, чувствовавший комплекс неполноценности рядом с боевым поколением, старше его всего пятью годами, всерьёз воспринимать похвалы дядюшке Максиму Петровичу? Разумеется, нет.
Но какую позицию занимал сам Грибоедов? В начале второго акта он столкнул двух ярких представителей разных поколений, но не поддержал никого. Фамусов показал себя нелепым стариком, расхваливающим придворного шаркуна-дядюшку, а потом заглушающим криком любые реплики Чацкого. И это крики отчаяния: ведь возразить он не может — сам в юности был или мог быть таким! Грибоедов ещё усложняет ситуацию тем, что Фамусов выражает в беседе идеалы не своего, а предшествующего поколения, времён «государыни Екатерины». Подобный разговор вполне мог происходить где-нибудь в начале 1790-х годов между юным Фамусовым и его отцом или дядей. Диалог Фамусова и Чацкого парадоксален: он словно увлекает в глубины российской истории, но он же зовёт и вперёд, когда молодым снова и снова приходилось бунтовать против стариков.
Сочинение шестое: «Декабрист ли Чацкий?»
Больше всего споров с первых дней появления «Горя от ума» вызывает образ Чацкого. Идеи, им высказываемые, оказались сложным сплавом просветительских, романтических и философских течений. Но что бы герой ни говорил, драматург отнюдь не превращал его в нелепого декламатора, ведущего политические споры с гостями на балу, как это представилось Пушкину («кому говорит он всё это?.. На бале московским бабушкам?») или Гончарову («умный, горячий, благородный сумасброд»). Однако не следует представлять, как порой делается на сцене, что герой обращается с монологом третьего действия ко всем гостям. Свой вопрос «Скажите, что вас так гневит?» Софья задаёт ему особо (это подчёркнуто в ремарке), значит, и ответ Чацкого предназначен только ей. В разгар его речи кто-то пригласил Софью на вальс, и он вынужденно прервал себя.
В центре монолога Грибоедов поставил вопрос, выдвинутый не просветительской, а романтической литературой и волновавший умы не только России, но и всей Европы, не только передовых мыслителей, но и придворных дам, так что Чацкий мог рассчитывать вызвать некоторый интерес у Софьи: вопрос о соотношении общеевропейского и национального. Чему следует отдавать предпочтение?
Суть моды на всё родное была весьма различна. Она могла выражать желание новых поколений приблизиться по духу и внешности к предкам, с их простотою нравов, удобством в одежде, с их цельностью взгляда на мир, лишённого всяческих романтических метаний, исканий и страданий. По этой причине с 1826 года русское платье стало официальным придворным дамским нарядом, словно, по мнению Николая I, сарафан мог принести общественный покой, взорванный восстанием декабристов.
Однако передовые молодые люди полагали, что перемена во внешнем виде и даже в языке помещиков не сможет сгладить недостатки крепостного права. Другое дело, если видеть в следовании традициям народа стремление вызвать его доверие — не опуститься до него, но поднять его до себя, заговорив с ним на его родном языке! Тогда можно было бы вернуться к допетровским временам во всём — предоставить «умному, бодрому народу» слово, завести Вече или Земский собор по примеру Ивана Грозного... Это были мечты декабристов.
Но Грибоедов предоставил Чацкому выразиться достаточно неопределённо: главным было возмущение против засилья жалких «французиков из Бордо» в русском свете, против их влияния на умы, одежду и нравы дворян, против подавления ими собственной русской мысли. Отсутствие ясно выраженной политической программы в речах Чацкого делает его образ типичным и правдоподобным, поскольку чёткое осознание целей и способов их достижения не было свойственно даже тем, кто 14 декабря 1825 года вышел на Сенатскую площадь.
И тут возникает ключевой вопрос: кто же Чацкий — декабрист? насмешка над декабристами? Ни то ни другое! И по самой существенной причине: к весне 1824 года, когда пьеса была закончена, Грибоедов не знал ни одного члена тайных обществ. Конечно, как и все в России, от императора до светских сплетниц, он слышал о существовании тайных обществ, но не имел перед глазами образца для своего героя. В 1823—1824 годах Александр Сергеевич при всём желании не смог бы найти в Москве активных членов Северного или Южного общества: все они находились в районах военных поселений на юге России или же в Петербурге.
Однако декабристы, их идеалы упомянуты автором, но очень своеобразным способом. Не имея возможности сделать главного героя членом тайного общества, опираясь на одни смутные слухи, Грибоедов очень остроумно ввёл в пьесу сами эти слухи, за нарочитой, подчёркнутой нелепостью которых вырисовывалась подлинная глубина зревших замыслов декабристов.
Всё то, что не мог позволить себе сказать Чацкий, всё то, что не мог позволить себе сказать автор, — он вложил в уста Репетилова.
Я сам, как схватятся о камерах,
присяжных,
О Бейроне, ну о матерьях важных,
Частенько слушаю,
не разжимая губ;
Мне не под силу, брат,
и чувствую, что глуп.
«Камеры, присяжные» здесь — прямой намёк на споры об английской парламентской и судебной системах и возможности их введения в России, которые активно велись в среде декабристов. Байрон упомянут не как поэт, но как борец за независимость Италии и Греции, как символ революционного и освободительного движения 1820-х годов, чьи тактика, успехи и неудачи интересовали будущих декабристов. Фактически Грибоедов через болтовню Репетилова сообщает зрителям о чьём-то желании ввести в России представительное правление, может быть, даже путём революции.
Сам Чацкий об этом говорить не может: некому да и неуместно на балу в чужом доме. Зато Репетилов говорит за двоих. Конечно, его «секретнейший союз» по четвергам в Английском клубе выглядит смехотворно. Но пусть смешон репетиловский союз, пусть пародиен — в основе всякой пародии лежит какой-то истинный факт. Если пустоголовые франты и шулеры собираются для политических разговоров, подражая кому-то, значит, им есть кому подражать. Только оригиналы обсуждают политические темы уже всерьёз. И перечень этих тем Репетилов дал... Большего никакой автор не мог себе позволить в пьесе, рассчитанной на постановку в Императорском театре. Грибоедов и без того сказал очень много.
Сочинение седьмое: «Кто же Чацкий — победитель или побеждённый?»
Конфликт Чацкого с московским обществом отнюдь не так резок, как это представилось последующим эпохам. Молчалин, пока поддакивает всем подряд, Скалозуб, пока кому-то нужен, приняты в свете, но отнюдь не на равных. Каких бы высот ни достиг в будущем Молчалин, никто не забудет, что когда-то он жил у Фамусова под лестницей, и Хлёстова за все его услуги способна расстаться с ним пренебрежительным «вон чуланчик твой, / Не нужны проводы, поди, господь с тобой». И Скалозуб не вызывает у неё иного отклика, кроме сердитого «Ух! Я точнёхонько избавилась от петли...» Напротив, Чацкий при любых проступках и преступлениях не вызовет у неё отторжения; что бы он ни совершил дурного, с её точки зрения, в этом будет и её доля вины: «Я за уши его дирала, только мало». Тот, кто рождён в московском обществе, кто имеет в нём родственников, пусть дальних, никогда не будет из него изгнан; тот, кто рождён вне его, никогда не будет в него принят.
Самые резкие высказывания в московских гостиных готовы были принять за чудачество или сумасшествие, в то время как в Петербурге они оценивались как политическое преступление. И никогда ни убийство, ни даже цареубийство не отражались на отношении Москвы к своим питомцам; напротив, многие примеры показывают абсолютное неприятие чужаков, будь они хоть в чине генерал-губернатора. Поэтому Чацкий всегда сможет вернуться назад.
Общество в комедии кажется единым, даже в рамках пьесы оно не изгоняет Чацкого: гости клеветали на него весь вечер, а он и не заметил этого. И в то же время среди всех выведенных персонажей нет и двух, которые выступали бы в качестве союзников. Молчалин и Скалозуб чужды всем, кроме нуждающегося в них Фамусова. Скалозуб, хоть и пожимает руку Молчалину, говорит ему за всю пьесу два слова, а Молчалин ему — ни одного. Софья единственного друга — Чацкого — отталкивает, в Молчалине разочаровывается, подруг не имеет. Фамусов оказывается жертвой сплетен, теряет шансы на родство со Скалозубом и, скорее всего, будет вынужден удалиться в деревню.
Не только основные, но и второстепенные персонажи оказываются вольно или невольно в изоляции. Загорецкий презираем всеми, графиня-бабушка приехала на бал через силу и рада уехать, графиня-внучка говорит и выслушивает только резкости и тоже рада уехать. Платон Михайлович с женой демонстрируют отвращение друг к другу, а у Чацкого прежний друг быстро вызывает разочарование («уж точно стал не тот в короткое ты время»). Репетилов недоволен и собой, и всем миром, ко всем пристаёт, но никто его не слушает, кроме доносчика и сплетника Загорецкого. Князь Тугоуховский вообще ни с кем не желает разговаривать. В этом мире даже безымянные г. Н. и г. Д., у которых нет никакого повода для ссоры, и то называют один другого «дураком». Только Хлёстова с княгиней выступают сообща — им нечего делить, кроме карточного долга. И над всеми как высшая сила царит где-то княгиня Марья Алексеевна. Какой персонаж ни возьми — можно именно его представить в конфликте со всеми прочими: Софья против общего мнения и её крах; Чацкий против всех; князь Тугоуховский вдали ото всех; все против Молчалина, Загорецкого, старой девы Хрюминой; Скалозуб, Репетилов в полном диссонансе с прочими и так далее.
Едва ли можно указать пьесу догрибоедовской поры, как и долгое время спустя, где бы была столь явно изображена истинная «война всех против всех», в то же время почти не замечаемая ни обществом, ни зрителями.