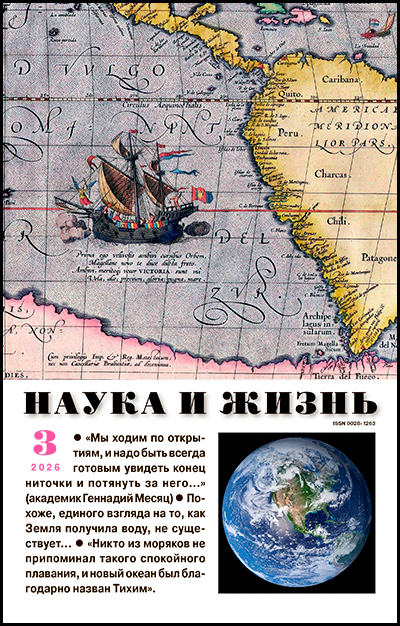Какое буйное цветенье,
Какой безудержный исход:
Сирени звездное виденье,
Кустов космический полет.
Вселенная цветет жасмином,
Рождает млечные пути.
Они плывут, проходят мимо,
Могу к ним близко подойти,
Рукою взять спираль галактик,
К себе приблизить пламень звезд,
Забыть - мечтатель я иль практик,
На миг вдохнуть вселенной всплеск.
Сергей Городецкий (Стихотворение, написанное в книгу отзывов на выставке Н. М. Ромадина.)
О САМОМ СЕБЕ
Родился я 19 мая 1903 года в Самаре, на Садовой улице, в домике во дворе, флигеле большого доходного дома. Этого дома давно уже нет. Отец, Михаил Андреевич Ромадин, и мать, Мария Кузьминична Головина, были крестьянами Ставропольского уезда Самарской губернии, выходцы из соседних сел с своеобразными названиями Пискалы и Ташла. Находились они в 40 километрах от Волги и были окружены громадным сосновым бором. Крестьяне работали на рубке этих лесов. После окончания военной службы отец навсегда осел в городе, стал железнодорожником. Кроме того, он всю жизнь самоучкой занимался живописью. Он был очень одаренным человеком.
После Самары мы переехали в Оренбург, где отец работал главным кондуктором на экспрессе. Из-за своей непоседливости отец часто менял города, и всегда это были города, а не деревни.
Некоторое время он даже пробыл в Мерве и Кушке, очевидно, это связано с тем, что отец служил в армии как раз в этих местах, в железнодорожном батальоне.
В мои 7-8 лет мы жили в Мелекесе - тихом посаде, окруженном лесом. Лес стоял вплотную, тяжелый, темный, вечный. Я любил его, целые дни смотрел, мечтал о нем и боялся. Казалось, что там живут лешие, оборотни и Баба-яга.
И вдруг, в 1913 году, снова Самара. Огромный город, "русский Чикаго", как его тогда называли. Разбитной, шумный, с огромной пристанью, с Волгой, запруженной сотнями барж, расшив, лодок. Постоянные гудки пароходов. И тут же рядом вокзал, такой же безудержно полный энергии и движения, вечно бегущих за счастьем людей. Самара славилась на всю Россию жигулевским пивом, секрет которого заключался в особо подходящей для пивоварения родниковой воде, залегавшей на большой глубине.
Самару опоясывали яблоневые сады, бахчи, огороды. Наша улица неслучайно называлась Садовой. По ней к огромному, бескрайнему, пахучему, яркому, шумному торжищу - Троицкому базару - шли и шли по мощенной булыжником улице бесконечные обозы с яблоками, дынями, арбузами. Запах спелых фруктов, аромат пригородных садов, кажется, никогда не улетучивался с нашей Садовой улицы.
Но вся душа моя принадлежит Волге. Это широкое счастье утреннего покоя, могучая, великая, все в себя забирающая Волга; какое счастье, какая радость с утра бежать к ней, чтобы валяться на песке, "летать" на лодке "на ту сторону", бесконечные Воложки, их чистые струи и просвечивающие сквозь воду на песке камушки, приречные кусты, лопухи... и безмятежное чувство радости и почти постоянное солнце. Нет, этого вольного, короткого детства мне не забыть!
Шел 1914 год - Первая мировая война. В доме - крайняя нужда. Скудные заработки отца и многочисленность семьи (пять человек детей, я - самый младший) заставили меня пойти торговать газетами.
Я ежедневно вставал в 4-5 часов утра, бежал получать газеты, быстро продавал у вокзала и шел в школу. В школе своего положения ужасно стеснялся, скрывал ото всех, ведь тогда газетчиками были самые "отбросы", несчастные сироты, брошенные, уличные дети, полуворы, которых порождала нужда и война. Поэтому рос я молчаливым и скрытным.
За газетами на рассвете собиралась толпа, и начинались драки, детские свалки перед маленьким оконцем, где выдавали газеты. Каждое утро со страхом я вновь прибегал в очередь за газетами "Волжский день", "Волжское слово". Я был настойчив. Нужно было раньше других с тяжелым холщовым мешком на плече от Волги добежать до вокзала. Тогда продашь газеты первым. Помню, в первый раз принес матери 11 копеек, их хватало на два фунта мяса, правда, "сбой", то есть всякие не сортовые части.
Ясно помню: знойный, пыльный день, я сижу на асфальте, прислонившись к стене дома на Шиховаловской улице, на мне рубашка, штаны, холщовая сумка рядом, разут. Газеты почти все проданы. Мне 11-12 лет. Очень грустно, тяжесть суровой жизни и несправедливости уже легла на мои детские плечи. Будущее грезится очень смутно. Сейчас побегу на Троицкий базар обедать - окрошка (копейка) и булка. Из огромного чана черпаком веселый молодец наливает в миску окрошку - куски мяса, воблы, огурцы и прочее все вместе. Дешево, но добротно и сытно. Сколько надо мне, почти ребенку? А завтра утром опять мои мучения. Опять очередь за газетами. Грустно, обидно, чуть не до слез. Солнце жжет, улица пустынна, жарко, но я люблю жару. Моментами, когда бывал свободен, я рисовал и писал акварелью, подражая отцу.
Отец всегда что-то делал, тихонько напевая. На него радостно было смотреть: он добрый. "Грозился", но никогда не тронул пальцем. С самого раннего детства я помню, как он садился и писал свои удивительные лодки, деревья, свои мечты. Я стоял рядом как завороженный и никак не мог поверить, что это мой отец. Он мне казался существом сверхъестественным. В этот момент я его боялся. По-видимому, мое состояние доходило до него, он поворачивался, улыбался и мазал мне кистью под носом или по щеке. Я обижался на минуту, и все-таки он продолжал мне казаться человеком сверхособенным.
Скитания отца по России, переезды из города в город с семьей, а иногда и без нее (он просто оставлял мать с детьми и уезжал), я объясняю его стремлением выбиться из нужды, выйти из круга, выше которого он был по своим способностям. По существу - погубленный талант.
После его смерти осталась небольшая библиотечка, в ней книги по астрономии, ботанике, медицине, "Похвальное слово глупости" Э. Роттердамского и "Травники". В травах он разбирался исключительно, лечился сам, лечил и других. Иногда, взяв кусок хлеба, он уходил на два-три дня в лес и являлся оттуда весь увешанный, словно обросший травами, смуглый, коренастый (он был небольшого роста), как бы вышедшей из леса живописной копной. Светлые голубые глаза светились, как у врубелевского "пана". Кончил он только двуклассную церковно-приходскую школу.
Когда я начал рисовать в 8-летнем возрасте, отец противился этому изо всех сил, отнимал краски, уничтожал рисунки, говоря при этом: "Не хочу, чтобы ты голодал, а если станешь художником, будешь бедствовать всю жизнь. Нужно быть техником". Он умер в 1936 году, когда я уже давно окончил институт, много выставлялся, обо мне писали - радость его и гордость за меня были безмерны.
Моя мать, урожденная Головина, была неграмотная, но очень умная от природы женщина. Властная, суровая, глубоко религиозная и высоконравственная, она была требовательна к себе и людям. Она сохранила чистую русскую речь. Поговорки, пословицы, к месту сказанные, так и сыпались из ее уст. Молодым я это мало ценил. Обижался, что она неласкова, сурова. Но впоследствии понял почему: отец спокойно уезжал из дома, оставляя на ее руках пятерых детей. Он знал, что она справится, прокормит семью. Мать никогда не жаловалась, твердо знала свои силы, умела постоять за детей и только позволяла себе "поубиваться" и повздыхать в разговорах с соседками.
Помню тяжелую болезнь матери. Ее уже соборовали, отправляли в неизвестность. С полудня и всю ночь я стоял на коленях и молился за нее, за ее жизнь. Помню, как она говорила: "Коля, встань". "Не встану, - отвечал я, - пока не вымолю твою жизнь". Мама выздоровела. Тяжелая жизнь наложила на ее характер свой отпечаток, она не была веселой, никогда не пела, но приход гостей в дом был для нее священен. Гостям выставлялось все лучшее, в ущерб своим. Уже в старости она проводила иногда у меня зимы. Встретить моих друзей пельменями, пирогами, показать им достаток сына было для нее счастьем и гордостью. Последние годы своей жизни родители жили в Ташкенте. В Узбекистане в то время жило много бывших железнодорожников, друзей их молодости.
Жизнь газетчика, продавца с лотка на вокзале всякой мелочи (папиросы, тетради, карандаши) и даже хлеба, который пекла мать, продолжалась до 1918 года. В школу было некогда ходить. Последние два года - 15 и 16 лет - я почти не учился, школа казалась мне далекой. Жизнь волжского города в дни войны и революции, вокзал, демобилизованные солдаты, матросы - вот среди кого я находился.
В 1918 году я вступил добровольцем в Красную гвардию. За хороший почерк и умение обращаться с лошадьми меня взяли личным рассыльным комиссара области. Я развозил поручения комиссара по городу на чистокровных лошадях. Это, конечно, доставляло мне большое удовольствие. Я получал военный паек, на который жила вся наша семья. Таким я себя и помню - худенький, бледный, всегда полуголодный.
С 1919 года Самара зажила мирной жизнью. Я понимал, что мне необходимо учиться. Демобилизовался, вновь поступил в школу. В конце лета сделал попытку поступить в художественный институт в Москве. Поездка в то время в Москву - целая эпопея. Вся Россия двигалась. Возвращались демобилизованные на восток. С востока на запад ехали толпы людей, кто куда: возвращались домой, искали своих, везли мешки с мукой, хлебом. Эшелоны забиты измученными, уставшими людьми, железнодорожных билетов не существовало. Нужно изловчиться, залезть при отправлении в теплушку и там отвоевать себе место, а его не было не только чтобы сидеть, а, по существу, и стоять.
С папкой рисунков, куском хлеба, бутылкой кипяченой воды (была холера) и в одной рубашке я забрался в вагон. Стояли вплотную. Постепенно расселись на полу и к вечеру уснули, плотно прижавшись друг к другу. Наутро я с ужасом увидел, что бок моей рубашки промочен селедкой, мешок с которой навалил на меня сосед, спящий рядом.
На пятые сутки я в Москве. Устроился на Разгуляе, на чердаке. Жили там рабфаковцы. Голодно. Москва пустынна, наступал Деникин.
Поступить во Вхутемас не удалось. Мне выдали справку Совета народных комиссаров за подписью Ульянова-Ленина, что в этом году приема во Вхутемас нет.
На второй день приезда пошел в Третьяковскую галерею. Шел босиком, настолько отвык в Самаре носить летом обувь, шел, конечно, пешком с Разгуляя. Пришел очень рано. Напротив Третьяковки, где сейчас художественная школа, лег на траву и уснул. Когда открыли галерею, я обулся и вошел.
Описать впечатление невозможно. Я был ошеломлен красотой, глубиной и высотой русского искусства. Многие картины я знал по открыткам (отец любил писать с открыток), некоторые по репродукциям. Но тут я увидел все настоящее, великолепное. Врубель совсем околдовал меня. Нестеров, Репин, Суриков, да разве можно перечислить всех! Тут я понял, что должен учиться. Ехать домой, закончить среднюю школу, вернуться в Москву подготовленным и поступить в институт. Что я и сделал.
Обратный путь домой в Самару был еще труднее. На Разгуляе я променял верхнюю рубашку на хлеб, но, к сожалению, съел его с такой быстротой, что даже не заметил.
В поезде лежал на верхней полке страшно голодный. В вагоне ехали демобилизованные матросы и солдаты. На следующий день один из них заметил, что я ничего не ем и не спускаюсь с полки, и поделился со мной едой. Увидев мою папку, спросил, могу ли я нарисовать его. После первого рисунка другие тоже захотели позировать. Я рисовал, а меня кормили, и все были довольны.
Какое тревожное, необыкновенное время. В вагоне между солдатами и матросами часто вспыхивали ссоры. Хватались за оружие, все были вооружены. Помню, как один красавец матрос, с презрением отзываясь о пехоте, говорил: "Ну, что у вас - галифе, галифе, галифе (имея в виду выстрелы из винтовок), а у нас - клеш! клеш! клеш! И сразу пятьсот под лед (подразумевая артиллерийские залпы с корабля)".
Так мы добрались до Сызрани. Мост через Волгу. Через него не пускают эшелоны с гражданскими. Это понятно, мост стратегический, единственный, связывающий две части России. Народу на вокзале в Сызрани набралось бесчисленное количество. Я жду, снова голодный, со мной только папка с рисунками. Мой сосед красногвардеец, имеющий справку с восьмиугольной печатью о том, что он демобилизован и возвращается домой, предложил: "Сейчас мы получим обед на двоих". Вписал в справку химическим карандашом: "Обед на двоих", и мы пошли через рельсы в эвакопункт, где повар, стоя у огромного котла, половником разливал жидкий суп. Возле него горой лежали справки. Взглянув на нашу, сказал: "Одна справка - один обед" - и плеснул в котелок. Мой добрый товарищ поделился со мной, мы сели на асфальт перрона и по очереди, черпая одной ложкой, съели суп. Домой же он вез только одну, правда огромную, корзину с замком (в каких в то время возили вещи), а в корзине - только котелок и ложка.
Когда двинулся военный эшелон к мосту, все бросились за ним, цепляясь на ходу за подножки. Вокруг стояла цепь солдат с винтовками, нас сбивали прикладами: они ведь не имели права везти через мост людей. Но так или иначе народ продирался в вагоны. Пробрался и я. Двери и окна закрыли. Мы задыхались. На "тормозах" стояли красноармейцы с винтовками и, когда пассажиры пытались открыть окна, начинали стрелять. Наконец Волгу переехали, окна и двери открыли. Поезд беспрепятственно дошел до Самары.
Я - ДОМА!
В Самаре несколько последних месяцев до поездки в Москву я учился в загородной школе-коммуне. Туда я и возвратился.
Эта школа, которая вошла в историю под названием "Башкировка", потому что находилась в доме и садах волжского мукомольного миллионера Башкирова, имела большое влияние на мое развитие. Дом, а вернее, несколько домов стояли на красивом высоком берегу Волги, утопали в садах. Имелся свой спуск на Волгу, свои лодки. Это был рай. У нас - свое электричество. Лес подавался наверх машиной - электрическим воротом. Мы все работали: пилили, кололи дрова, сами топили печи. Была также токарная мастерская, много своей земли. Мы работали и на огородах. Имелась своя продуктовая кладовая.
В доме сохранились великолепная библиотека, издания классиков, слепки с античных скульптур, огромные фотографии скульптур Фидия. И замечательный актовый зал.
Преподавательский состав очень высокого профессионального уровня. В то голодное время с нами занимались университетские преподаватели, а в Самарском университете были преимущественно преподаватели из Петрограда, попавшие в этот волжский город во время войны и разрухи.
Душа и организатор "Башкировки" - директор школы, она же преподаватель истории - Вера Николаевна Лукашевич. Дочь народовольца, прослушавшая курс истории в Сорбонне, деятельный и справедливый человек, она вносила во все возвышенный энтузиазм русского демократизма. В тяжелое время голода в Поволжье она добивалась для школы всего возможного и невозможного. Ходила в Самару в облоно пешком, в лаптях (ботинок не было), а школа находилась на расстоянии 10 километров от Самары. Эта истинно русская женщина с достоинством переносила лишения и трудности.
В школе работали всевозможные кружки. Музыкальное образование практически могли получить все желающие: такое было обилие музыкальных инструментов - 12 пианино, 5 роялей. Руководил музыкальными и драматическими занятиями Николай Дмитриевич Самарин, окончивший Петербургскую консерваторию. Ставили оперы, драмы. В "Борисе Годунове" я играл Бориса, писал декорации. Школа связала учившихся в ней на всю жизнь. Называть себя "башкировцем" было лестно.
Как-то в школу приехала делегация из Москвы. Знакомство ли с новым начинанием - организацией школы-коммуны - или просто артистическая группа, не знаю. Среди них был некто Горощенко, на концерте он выступил как скрипач. Перед концертом я, как всегда для всех спектаклей, нарисовал афишу. На ней изобразил Волгу, Жигулевские ворота. Горощенко заинтересовался афишей, познакомился со мной и сказал, что из Москвы вышлет мне книгу Дж. Рескина об искусстве. И действительно прислал. Эта книга произвела на меня огромное впечатление. Я ее изучил от корки до корки. Многие места цитировал по памяти: "Наука изучает отношение вещей друг к другу, а искусство только отношение их к человеку". В письме, которое Горощенко вложил в книгу, он писал, что мне необходимо ехать учиться в Москву. О том же самом я вычитал и у Рескина: "Половина наших художников, обладая знаниями, гибнет от недостатка образования; самые лучшие из тех, которых я встречал, были образованны и безграмотны. Однако идеал художника не есть безграмотность; он должен быть очень начитан, сведущ по части лучших книг и совершенно благовоспитан, как с внутренней стороны, так и с внешней. Словом, он должен быть пригоден для лучшего общества и держаться в стороне от всякого".
До 1940 года я больше не встречал Горощенко, не знал, кто он и где живет. Вдруг в 1940 году в Тарусе я встретился с ним, не помню, кто из художников нас познакомил. Он преподавал рисунок в каком-то из институтов, значит, кроме скрипача, был и художником. О присланной книге не помнил, прошло слишком много лет. Очевидно, делать добро заложено в нем. Ему было приятно узнать, какое значение имел для меня его бесценный подарок в мои 16 лет.
Учился я с необыкновенным рвением, за год сдавал экзамены за два класса. В 1922 году, весной, я окончил школу, поступил в Самарский художественный техникум, трехгодичный курс которого закончил в один год. В эту же зиму посещал лекции в Самарском университете.
В Самаре мы, студенты художественного техникума, организовали театр-студию, подготовили два спектакля, в том числе "Женитьбу" Гоголя, играли их на клубных сценах, сборы делили и на это жили и учились.
В 1923 году я приехал вновь в Москву, выдержал вступительные экзамены и был принят во Вхутемас. Вся моя дальнейшая жизнь связана с Москвой.
Первый курс - рисунок у Щербиновского. Замечательный преподаватель и художник, друг Шаляпина и Коровина. В мастерской у него 105 человек. В то же время у некоторых профессоров всего по 8-10 человек. Живопись - у Древина. Я учился с большим увлечением, приходил в мастерскую первым. Сторожа уже знали меня и пускали.
Две сцены в мастерской Щербиновского. Первая. Он сам, сурово обращаясь ко мне: "Волосы отпустил, в альбом рисуешь?" Я страшно смущен, стараюсь объяснить, что у меня талон в баню, талон бесплатный, стрижка тоже, а пока идет очередь, пришел рисовать. Стипендия 8 рублей, без бесплатных бани и парикмахерской не обойдешься. Вторая сцена. Мы рисуем, нас 105 человек. Позирует Костя Дорохов, наш товарищ, студент. Позирует тоже из-за страшной нужды. Щербиновский проходит мимо меня, смотрит мой рисунок и произносит: "Остановитесь, посмотрите на него, я ему предсказываю большое будущее. Мне нужно было преподавать тридцать лет, чтобы сказать эти слова. Вот лев, а вы все котята". Это так неожиданно и так лестно, мне, студенту первого курса.
Со второго курса я учился у Фалька. Относился он ко мне очень хорошо. Мы с ним гуляли по Москве, ходили в музеи. Я просил его не подходить ко мне во время занятий, он согласился и не трогал меня. Дело было в том, что, подходя к студенту, Фальк любил брать кисть и делать на работе черный контур. Это очень сбивало меня, и я его попросил предоставить меня самому себе: "Если будет получаться хуже, вы мне скажите об этом, Роберт Рафаилович", - просил я его. Он согласился, и о работе мы беседовали с ним, гуляя вечерами по Москве.
Когда я был на втором курсе, на Парижскую выставку отбирали восемь работ со всего Вхутемаса, в их числе выбрали одну мою. С Московской художественной выставки Третьяковская галерея приобрела два моих пейзажа. В 1930 году я окончил институт со званием "художник-станковист 1 категории". С тех пор моя жизнь целиком посвящена искусству.
Через все мытарства и испытания я нес одну мечту - искусство. И вот моя мечта осуществи лась. В 1939 году я поехал на Волгу и начал писать маленькие пейзажи. Работал очень напряженно. Я решил сделать выставку. На открытии выступили Машков, Лентулов, Туржанский. На выставку пришел Нестеров. Он перед этим не ходил на выставки 20 лет. А привезла его Ольга Валентиновна Серова, дочь Серова. С тех пор я стал постоянным участником всех всесоюзных и юбилейных выставок, а первая моя персональная выставка состоялась в 1940 году. С 1950 года начали выходить мои монографии.
ФРАГМЕНТЫ ИЗ ДНЕВНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТ
Искусство не изображает видимое, но делает его видимым.
Ничего не хочу я от жизни, кроме ощущения радости и чувства справедливости, целесообразности жизни и любви, которой я переполнен ко всему: России, женщинам, детям, скорби людской.
Есть у меня долг перед Россией, перед своей страной, перед русскими лучшими людьми. Я отделяю лучших, добрых, любящих русских людей. Лучшие те, кому дан Дар любви.
Сам я не устаю благодарить жизнь за этот Дар. Моя любовь к природе, ко всем этим веточкам, елочкам, глухому лесу, тихой воде, бурно-весеннему щебетанью воробьев, карканью ворон, крику сороки и вечно-вечному журчанью ручья наполняет мое сердце смыслом сущего.
Я живу в своих поездках неуютно, без всякого комфорта, но радостно. Кажется мне, что я исполняю честно свой долг, превозмогаю капризное желание успокоенности, житейского благополучия. Я всегда старался этого избегать. Счастье и несчастье не всегда различимы, часто одно из другого вытекает. Держась такой точки зрения на жизнь, я почти постоянно счастлив.
Мне Бог дал счастье любить красоту природы, ее чистую, незапятнанную душу, впитывать и передавать свои чувства к ней.
Ты единственная, моя красавица Земля, - едва ли есть где более красивая живая планета. По-видимому, религия и древние мыслители, считавшие Землю центром мироздания, более правы, чем все новейшие открытия, предположения и научные гипотезы. Так жалко будет расстаться с тобой, с тем счастьем, которое ты даешь, с той несказанной радостью жизни, с великими ее инстинктами - любовью, добром, сохранением жизни и продлением рода.
Что ждет впереди? Знаю, что не напрасно жил, переживал, мыслил - как бы готовился к новой деятельности. Вот сейчас земля спит. Стоит прекрасная в своей вечной неповторимости осень. Выпавший снег создал дивный орнамент на елках, ветках, кустах, создал хрупкую форму на нежных ветках. И тайну...
Пейзаж открывает полную возможность свободно выражать свои чувства.
Пейзажи Пушкина, Тютчева, Тургенева, Есенина, Левитана и других удивительно созвучны человеку и будут постоянно звучать в нашем сердце.
Сегодня, по обыкновению, много думал - почему так много внимания я уделяю мастерству? Что это у меня - пресловутый "российский академизм"? Ведь главное - это чувство. Именно в периоды упадка, деградации духа, мастерство начинает заменять чувство.
Нет большей правды в искусстве, чем сама жизнь. Только она и являет постигаемую чувством красоту, которую художник пытается воспроизвести.
О НЕСТЕРОВЕ
Нестерова среди художников я начал выделять особо еще с 16 лет, когда в первый раз приехал в Москву и попал в Третьяковскую галерею. Его "Варфоломей" задел меня так глубоко, что я сразу же поставил его в один ряд с Врубелем; поразил меня также портрет жены Михаила Васильевича - Екатерины Петровны.
Потом, уже в 1935 году, состоялась его персональная выставка в Музее изящных искусств в Круглом зале. Она меня несказанно обрадовала, и я, тогда бесштанный студент Вхутемаса, мечтал приобрести его пастушка - "Свирель".
Я жадно слушал и читал о Нестерове все, что мог узнать и достать. Суждения о нем были достаточно едины и характеризовали его как сурового, фанатично честно относящегося к своему творчеству и назначению в жизни художника.
Мои представления о Нестерове стали гораздо глубже после моих встреч и бесед с Павлом Дмитриевичем Кориным, с которым я был знаком уже довольно давно. Но все это были лишь заочные ощущения.
А познакомились мы с Михаилом Васильевичем в 1940 году на моей персональной выставке на Кузнецком мосту.
Когда я привез работы в выставочный зал и сложил их вместе в уголочек, они уместились на очень маленьком пространстве. Я удивился: как же они займут весь зал? И только безотчетная храбрость подсказывала мне, чтобы я не отступал, чтобы был так же смел, как тогда, когда юношей переплыл Волгу под Самарой.
Но и сейчас, когда я привожу свои работы в Академию художеств, продолжаю удивляться, как же мало надо работ, чтобы занять все залы! В 1940 году на той выставке у меня было то же самое впечатление. Сколько волнений перед выставкой!
Николай Васильевич Власов, друг всех известных московских художников, устроитель выставок из частных собраний, знаток русской живописи, сообщил мне, что завтра, числа я не помню, в 11 часов утра мою выставку посетит сам Нестеров, а привезет его дочь Валентина Серова.
Я был очень взволнован - мне казалось, что это абсолютно неосуществимо по тем или иным причинам. Когда утром я пришел на выставку, зал был уже довольно полон. Вмиг разлетевшееся сообщение о том, что приедет Нестеров, взволновало многих. Всем хотелось увидеть его, а надо сказать, что художественных выставок он тогда не посещал.
Я сидел в середине зала и вдруг увидел человека небольшого роста, с резкими движениями, острого, с сухим лицом мудреца и аскета. Надо было видеть, как он подошел к швейцару, снял двумя руками кашне и подал его. Меня поразил его властный жест и сжатые в кулаки руки. Этот жест напомнил мне портрет И. П. Павлова. Михаил Васильевич несколько раз обошел выставку и подошел ко мне. Сказал немного хороших, похвальных слов и пригласил посещать его. Я стал его вторым учеником после Корина, который был до меня его учеником уже 26 лет.
Через два дня я пришел в дом к Нестерову в первый раз. Жил он в Сивцевом Вражке. Он посадил меня в маленькой комнате в кресло вместе с собой и обнял. В кресле двоим было очень тесно. Он спросил: "Откуда вы это знаете?" Я сразу понял, что спрашивает он о сущности творчества, и начал отвечать издалека. Сказал, что учился у Фалька. Он заметил: "Фальк не знает". Я ему сказал, что считаю своим первым учителем Щербиновского, Михаил Васильевич возразил: "Откуда мог знать это Щербиновский? Впрочем, - добавил он, - Щербиновский был другом Коровина, мог от него слышать, но сам не знал". Тогда я сказал, что своим первым учителем считаю также Крымова. Он кивнул: "Крымов знает. Приносите все, что вы напишете, плохое и хорошее. Обязательно. А плохое - особенно".
Я ему приносил все, писал я тогда маленькие вещи, величиной с ладонь, после того, как я писал картины, за которые был "прославлен", с фигурами в натуральную величину: 50 фигур - "Страна Советов". Я понял, что это не мое, это искусство было на службе полемики, политики, рецензий. С помощью Нестерова я понял, что с этим искусством далеко не уйдешь. Понял, что нужно бесконечное изучение натуры, этого мне не хватало, потому что бешеные темпы не давали возможности изучать природу, а без глубокого знания природы никакого художника быть не может. Правда, мне Нестеров сказал на выставке, что и эти мои вещи, композиции - тоже искусство, только к ним у меня мало было подготовки. Еще до моего первого посещения дома Михаила Васильевича, на нашей первой встрече на выставке, он серьезно спросил: "Перед тем, как прийти ко мне, ответьте, пожалуйста, на два вопроса: есть ли у вас воля и любите ли деньги?" Я ему ответил определенно, что деньги не люблю, а воля у меня как будто бы есть.
Вскоре Михаил Васильевич попросил показать ему мою жену. Принимали нас вечером, очень приветливо, душевно, всей семьей: Екатерина Петровна, дочь Наташа и сын Алеша. Впечатление такое, как будто мы были знакомы очень давно. Моя жена, Нина Герасимовна, пришла в темно-синем платье, которое носила до того 8 лет. При расставании, в прихожей, Михаил Васильевич подал ей пальто, быстро отскочил от двери (боялся простудиться) и тихо сказал мне: "И с этой стороны я спокоен". С того дня началась наша дружба с семьей Нестерова, которая продолжается до сих пор.
1 июня у Михаила Васильевича день рождения, ему исполнялось 78 лет. Послав предварительно поздравительную телеграмму и получив от него по телефону приглашение, пришел вместе с женой.
Народу собралось очень много. Михаил Васильевич усадил меня на сундук, прижал к себе и произнес: "Вот здесь, на этом сундуке, одни художники сидят". В этот вечер мне выпало счастье познакомиться с друзьями Михаила Васильевича: внуком Тютчева Николаем Ивановичем, архитектором Щусевым, художницей Кругликовой, певицами Ксенией Георгиевной Держинской и Надеждой Андреевной Обуховой, баритоном Пантелеймоном Марковичем Норцовым (лучшим Онегиным) и другими. С Ксенией Георгиевной Держинской нас связала близкая дружба до самой ее смерти.
Вечер получился очень праздничен, очень сердечен и очень прост. Обычные слова, обычные поздравления, но все одухотворено присутствием большого художника.
Помню другой вечер. Раздался телефонный звонок: "С вами говорит Михаил Васильевич. Я приглашаю вас сегодня к себе в четыре часа, не хотите ли вы, чтобы еще кто-то был? Я не знаю, кого вы хотите, но, если не возражаете, будет Кончаловский". Я приехал минута в минуту, чуть позже появился Петр Петрович с женой. Чета Кончаловских была, помню, увлечена, они говорили, какие интересные портреты пишет Петр Петрович и какая замечательная Ольга Васильевна. Когда я почувствовал, что мы засиделись, начал уговаривать всех уйти потому, что было поздно и Михаилу Васильевичу нужно ложиться. Да и действительно, хозяин стал засыпать. Но Петр Петрович очень увлекся, и Ольга Васильевна тоже. Расходиться никак не хотели, и все говорили, что еще рано. Были они веселые и беспечные, как дети. А Нестеров к концу нашей встречи сидел совсем серый, ему нужно было делать процедуры - у него развивалась болезнь.
Нестеров внушал мне: "Ваше восприятие с возрастом будет ослабевать, и поэтому вы должны заранее развивать технику. Овладев техникой в совершенстве, вы сможете, не снижая достоинств, работать так же. Художнику необходима техника и ее совершенствование, чтобы чувство не уходило на преодоление трудностей, связанных с изображением натуры, а освобождаясь, лилось бы свободно. Главное в живописи не терять того, что дано. Это - великий закон.
Ох, как хорошо, как хорошо иметь талант, и дачи, и наслаждения, которых при деньгах появляется великое множество, и похвалы, похвалы... Но помните, талант - это тяжелая обязанность, это - не удовольствие. За врученный вам талант вы отвечаете перед нацией. Вы должны донести его до конца своей жизни. Это то, для чего вы живете.
Слово поиск в искусстве фальшиво от начала до конца. Поиск можно понимать только в смысле преодоления трудностей выражения природы. Искать нужно для того, чтобы добиться подлинности, возвышенности, а не бессмысленного искажения форм выражения. Искажение форм в искусстве - это не новое, это изуверство, от которого берет тоска. В Греции и Риме брали штраф с художника или скульптора, если он не выразил в произведении своей души, того самого, что является истинно ценным, переживает века и оставляет несказанное чувство ощущения вечной правды, говорит о наших предках, пращурах, их мыслях, деяниях и любви.
Все великие эпохи создавали искусство безымянно: Греция, Рим, Византия, Средние века, Ренессанс. Безымянной была и наша великая иконопись. Она выше всякого отдельного таланта, и она не раздробилась на индивидуальности. Мы только по кисти мастера предполагаем Рублева, Дионисия и так далее.
Наша новая эпоха в конце концов придет к этому же. А сейчас пока много поисков, крайний индивидуализм. Все эти поиски ничего не определяют и отметутся сами собой. Мы стоим перед новым началом и новой эпохой в искусстве, но вызревает она веками, а не десятилетиями.
Человечество существовать без искусства не может, и искусство у нас будет великим и пророческим, будет выше, чем то, что было в конце XIX и XX века.
В русской живописи три гения: Рублев, Иванов и Врубель".
Нестеров рассказывал, что, когда он выразил Врубелю свои чувства, свое восхищение его творчеством, Врубель ответил: "А Варфоломей-то у вас!"
Отчего такой придирчивый человек, как Врубель, так высоко оценил эту картину?
У Нестерова простая, неприхотливая, "хилая" природа, душевная и тихая, хранящая в себе скрытую радость. Ее простота и человечность так глубоко связаны с русским сердцем! Только один Нестеров понял это чувство. У него глубочайшая тайна взаимосвязи человека с природой. Его природа - та среда, которая вырастила человека, дала ему дух и силу.
Я спросил у Михаила Васильевича, можно ли писать по старым холстам. Он ответил: "Только если холст счищен до грунта, но лучше не писать. У меня был один случай, когда работа совсем погибла, и второй случай - когда удалось спасти. Я писал портрет, человек мне нравился. Этот портрет похвалил В. Васнецов. Уже он был стар, как я сейчас, но приехал ко мне. Ему портрет понравился. Через некоторое время портрет начал осыпаться кусками. И ничего с ним уже нельзя сделать. Он на рулоне, но его как бы не существует. Картина "Отец Сергий", которая находится в Русском музее, писана на счищенном холсте. Мне даже счищать помогали добрые люди. Я ее поставил на выставку "Мир искусства". Ее приобрели для Русского музея. Заплатили хорошо. Однажды я прихожу на выставку, дотронулся пальцем, так, слегка, до уголка картины. Вижу - кусочек отвалился, дальше - зацепил ногтем - совершенно легко лупится краска. А картину собирались отправить на Всемирную выставку в Париж. Я рассказал, в чем дело, - картина не могла быть отправлена ни в Париж, ни вообще быть продана музею. После осмотра мне ответили, что в Париж ее не отправят, но в Русском музее она должна остаться. После выставки "Мир искусства" ее передали реставраторам, они долго с ней провозились и перевели картину на новый холст. "Отец Сергий" так и остался на другом холсте".
В 1941 году началась война, я увез семью в Ташкент, наши встречи и беседы прекратились, а 19 октября 1942 года Михаил Васильевич скончался. Перед моим отъездом из Москвы при прощании он сказал о войне: "Надо потерять голову, чтобы напасть на Россию, Россию победить нельзя".