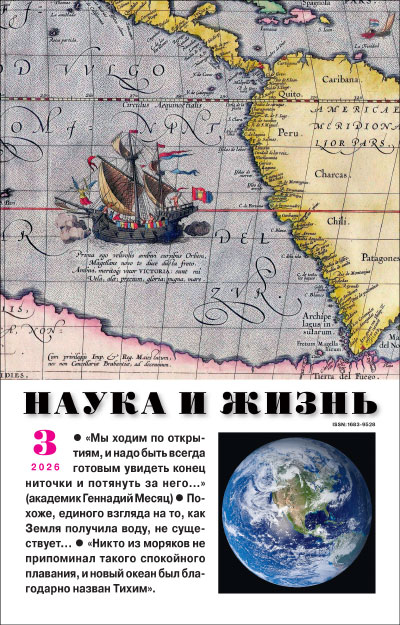Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.
А. Пушкин
Мои школьные годы пришлись на три разные эпохи. В первый класс я пошел еще до войны, затем учеба в военные годы и наконец - окончание школы в "победные" сороковые. На этом пути мне посчастливилось встретить и попасть под влияние замечательных людей - педагогов, наставников, воспитателей. Сейчас, полвека спустя, с глубокой благодарностью вспоминаю имена многих из них, беззаветно отдававших нам свои знания, здоровье, свою жизнь. К сожалению, фамилии некоторых учителей я не смог вспомнить.
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
1 сентября 1940 года отец отвел меня в 153-ю школу в подмосковном военном городке около Покровско-Стрешнева, только раз показав недолгий путь до нее. Потом я находил свой 1-й "в" сам. Мама, вернувшись из Крыма, где отдыхала, нашла меня вполне самостоятельным учеником. Отметки, правда, были неважные: тройки и двойки. Учительница проставляла их в тетради разноцветными карандашами, в основном коричневым и черным. Мама "взялась за меня" и в течение месяца сидела рядом, когда я выполнял домашние задания. Вскоре цвет отметок сменился на желтый и красный. Дальше я двигался в учебе сам, без какого-либо серьезного вмешательства со стороны родителей.
Моя первая учительница - Антонина Аполлоновна Пушкина. По имени, по утонченным (аристократическим, как я думал) чертам лица, тонкому носу, внимательным темным глазам, вьющимся черным волосам, по мягкой, без повышения голоса, манере ведения урока - по всему я был абсолютно уверен, что она прямой потомок поэта. Может быть, его правнучка. И все ученические годы, да и после воспринимал начало своей учебы под ее крылом как благодатный подарок судьбы. Сколь велико было мое разочарование, когда через много лет в одной поездке по пушкинским местам эрудированный экскурсовод авторитетно заявил мне, что потомка с именем Антонина Аполлоновна в пушкинском генеалогическом древе нет.
Первый класс я окончил отличником (их было почти половина класса), и каждому Антонина Аполлоновна дала на последнем уроке четкую характеристику. Я, помню, был отмечен как "хороший организатор, чьи способности еще раскроются". Что-то, видимо, сбилось потом в моем внутреннем устройстве, и организаторский талант, предсказанный "правнучкой Пушкина", завял на корню - ни директором, ни начальником, ни массовиком-затейником я так и не стал.
НАЧАЛАСЬ ВОЙНА
Второй класс проходил в городе Иванове, куда семья была эвакуирована. За осень и зиму сменил несколько школ. Они закрывались, школьные здания передавались госпиталям, быстро заполнявшимся ранеными, а нас, школьников, переводили в подсобные помещения, наскоро переоборудованные под учебные классы. Приходилось далеко ходить, учиться в холодных, неустроенных, темных комнатах. Время настало холодное и голодное. Учеба была не главным делом в изменившейся жизни, и все же даже в самые тревожные декабрьские дни 1941 года, когда немцы стояли под Москвой и могли вот-вот захватить ее, занятия не прерывались ни на минуту. Мы по-прежнему готовили домашние задания, ходили в школу по узким тропинкам, протоптанным среди сугробов, и на большой перемене получали заветный завтрак - крошечный кусок черного хлеба с мазком повидла, вкуснее и желаннее которого не было ничего на свете.
Как и школы, сменялись учителя, не оставившие в памяти никакого следа. Запомнилось только одно лицо - учительницы во втором классе, которую звали Вера Николаевна. Это была немолодая (по моим понятиям), простая, спокойная, полная женщина без каких-либо выдающихся черт. Прямая противоположность "аристократической" Пушкиной. Ее отношение ко мне, одному из первых в классе, москвичу, было ровным и заметно отстраненным. Она редко вызывала меня к доске, ставила высокие отметки и все свое внимание отдавала другим. Было немного обидно...
В марте 1943-го мы вернулись в Москву, и я стал учиться в 147-й школе на Красной Горке. Условия учебы оставались практически такими же, как и в начале войны: сидели в пальто и шапках, в вечернюю смену на весь класс горела одна тусклая лампочка. Но общее настроение было уже другим - отгремела Сталинградская битва, наши войска гнали немцев, приближал ся, как все думали, День Победы.
Из этого времени запомнилось несколько лиц. Не знаю, по какой причине в четвертом классе часто сменялись учительницы немецкого языка. Наконец, вроде бы закрепилась одна - энергичная, прилично одетая, с прекрасным знанием своего предмета и особым подходом к нам. Она так повела дело, что уроки немецкого стали самыми интересными. Никто не отлынивал, все дружно принялись штудировать Deutsch. Как вдруг - стоп: учительница не приходит раз, другой и пропадает совсем. Через некоторое время: "Дети, забудьте о ней, она оказалась нехорошим человеком". "Немецкая шпионка", - сказал кто-то из ребят. На том и порешили. Шел 1944-й, предпоследний год войны. Добрая память об ее интересных уроках все же осталась.
Другой, по-настоящему любимой учительницей была математичка Любовь Ивановна Миронова. Математика в четвертом-пятом классах самая трудная. Решать запутанные задачи с водой, вытекающей из кранов, пешеходами и велосипедистами, снующими из пункта А в пункт Б, не вводя иксов и игреков (как позднее учит алгебра), крайне сложно. Миронова сумела так "раскрутить" наши умы, что головоломные задачки мы щелкали, как орешки. Это была тихая, неприметная женщина, малорослая, скромно одетая, но любимая всем классом так, как не любили самых ярких и красивых.
Детская любовь порой принимает странные формы. Мы решили выследить Любовь Ивановну и узнать, где она живет. Зачем, никто бы точно не ответил. Что нам мог дать ее адрес - совершенно непонятно. Но мы узнали его со всем усердием, как лучшие военные разведчики (сказалось воспитание на фильмах и книгах того времени): пятеро мальчишек тайно преследовали ее после школы, прятались в толпе, ехали незаметно в одном трамвае. Путь до дома оказался не близким. Был уже вечер, темнело, когда мы "довели" учительницу, ничем не выдав себя, до самого подъезда. Оказалось, жила она в большом доме где-то в Химках. Нигде потом, а учились мы у нее еще целый год, наша шпионская "одиссея" не нашла применения.
Среди учителей появились фронтовики. Первым пришел контуженный на фронте физрук Макс (так звал его весь военный городок). Как всех учителей физкультуры, его, несомненно, любили. В спортзале, в ближнем парке, даже у стен школы бегать, прыгать, играть во что угодно было, конечно, намного интереснее, чем сидеть неподвижно за партой в классе. Макс к тому же был высокий, стройный, по-спортивному одетый, смелый и находчивый. Нашу ребячью анархию он пресекал быстро и решительно. Даже записывая что-то на доске в классе, отвернувшись от нас, он безошибочно вычислял тех, кто кривляется у него за спиной, - по отражению в своих очках, и шалун немедленно выдворялся в коридор. А какие игры он нам закатывал, какие устраивал соревнования! Однажды в кроссе по парку я срезал путь, не добежав до указанного дерева, и гордо подбежал к стоявшему у школы с секундомером в руке Максу. Скептически взглянув на меня, он заставил бежать еще круг. Почему? "Хочу посмотреть, сможешь ли ты еще раз повторить мировой рекорд!"
Преподавателя военного дела на фронте ранили в голову, он всегда, даже в классе, ходил в какой-то особой твердой шапке. В отличие от Макса военрук был флегматичен, неразговорчив и все время как будто усталый. Целый год мы проходили с ним боевую винтовку образца 1891/30 года: ствол, приклад, затвор и т.д. Обладая цепкой памятью, я быстро освоил на зубок устав этого вооружения и с блеском, приходя на помощь другим, выпаливал "стебель, гребень с рукояткой" и другие звучные детали грозного оружия и все пункты их назначения. Особую заботу военрук проявил, когда мы на практике "осваивали противогаз". Испытания проходили в школьном подвале, заполненном дымом. Преподаватель без устали проверял герметичность надетых масок, заглядывал в очки, обуздывая нашу неуемную веселость. Его твердая шапка мелькала в дыму. Не такая уж "флегма" он был на самом деле.
На этом "военном" этапе жизни были у меня и другие, "внешкольные", учителя. В нашем парке на краю Москвы все военные годы размещались части, приходившие с фронта на отдых. Стояли армейские палатки, какая-то техника, часовые. Нам, пацанам, почти всюду был открыт свободный проход, солдаты даже проявляли к нам особое внимание. Мы этим, естественно, пользовались и с нетерпением ожидали каждую новую фронтовую часть: хотели выменять боевое трофейное оружие. Выпросив у отца офицерскую планшетку с компасом, ручкой, прозрачным отсеком для карт, я отправился в лагерь с надеждой добыть парабеллум или по крайней мере маленький вальтер. Правда, опасаясь быть поднятым на смех, долго мялся, но в конце концов высказал свое желание. Молоденький лейтенант фыркнул в ответ, ушел в палатку и вынес немецкий штык-кинжал в железных ножнах. Конечно, это было не так здорово - всего-то холодное оружие, но и оно завораживало боевым блеском. И я пошел на уступку. Отец вполне одобрил мой обмен, и штык долго служил у нас в хозяйстве, пока (до сих пор жалею об этом) я не променял его на коллекцию иностранных марок.
Нашими "внешкольными" учителями были и девушки-аэростатчицы, у которых мы выменивали на домашние вещи мотки резины для самострелов и заводных моторов лодочных моделей. Менялись и с пленными немцами, работавшими на стройке и жившими в соседнем деревянном бараке. Здесь в ход шло любое питание - с нашей стороны и заморские образцы (губные гармошки, спиртовки с твердым спиртом, горевшим голубым пламенем, ножики с цветными пластмассовыми ручками) - с побежденной.
Это тоже было учебой, и я благодарен всем недипломированным учителям - они оказались добрыми наставниками по "жизненному практикуму". Насколько помню, ничему плохому они нас не учили. Плохое шло с улицы, от старших ребят: там действительно попадались "учителя", от которых и сейчас пробирает дрожь.
После боев в Подмосковье осталось много боеприпасов, разбросанных по лесам и оврагам. Мы обращались с ними довольно бесцеремонно: бросали в костер, ожидая в кустах, когда бабахнет, прятали в тайниках. Порой арсенал неожиданно взрывался, унося жизни, калеча и на всю жизнь помечая юных следопытов шрамами. Многие ребята из нашего дома носили на себе несмываемые отметины.
Отцы наши, кадровые военные, имели боевое оружие (у моего папы одно время был маузер времен Котовского и Первой конной), которое прятали, конечно, от нас, но не всегда надежно. Однажды мой друг Лева с приятелем играли дома в войну "спрятанным" пистолетом. Обойму-то сообразили вынуть, а про патрон в стволе забыли, и Лева получил выстрел в грудь. На счастье, не был задет ни один жизненно важный орган. Потом, если очень просили, он давал пощупать огнестрельную рану с глубоко застрявшей пулей.
Отцы и старшие братья тоже становились нашими учителями, хотя им в те неимоверно тяжелые годы часто бывало не до нас.
ДОЛГОЖДАННАЯ МИРНАЯ ЖИЗНЬ
Завоеванная в мае 1945-го мирная жизнь совсем не походила на безмятежную довоенную. Остались продовольственные карточки, грядки под окнами, которые ежедневно надо было поливать. Был и голод, были даже бандиты - наводила страх "черная кошка". Страна так и не смогла полностью вернуться в довоенную атмосферу - что-то надломилось в ее железном организме. А потом наступила "холодная война".
Учеба все же стала более спокойной и налаженной. Да и мы, повзрослев, научились брать от нее больше не по принуждению, а по собственному интересу. Вот тут и появились наши лучшие учителя. Хотя они в большинстве своем были воспитанниками 1920-1930-х годов, но впитали, видимо, от своих учителей благородный дух дореволюционных гимназий с их девизом: "сеять разумное, доброе, вечное".
Ботаничка Софья Саввишна знала, казалось, все о растущем и цветущем мире. Маленькая, слегка картавившая, она могла часами рассказывать о растениях всех климатических зон, от африканских пустынь до арктической тундры, и учила нас не по учебнику, а по своим устным былям, мало заботясь о том, что мы усвоим из бесконечных рассказов. Но ее предмет знали хорошо - на экзаменах ей никогда не приходилось краснеть за нас.
Литераторша Анна Георгиевна была тоже влюблена в свой предмет, который, в отличие от ботаники, не всем давался легко, и, отпуская от доски очередную жертву, не сумевшую раскрыть тему, она с горечью говорила: "Кажинный раз на эфтом самом месте". (Как я потом узнал, это была цитата из рассказа писателя XIX века Н. Ф. Горбунова "На почтовой станции".) Она искренне огорчалась, сталкиваясь с нежеланием понять красоту русской литературы. Мы, как все нормальные дети, предпочитали скучным фонвизиным фантастику и дикие приключения. Я все же был у нее на хорошем счету, особенно по сочинениям на вольную тему. Как правило, классу предлагались три темы: две - по изучаемым произведениям ("Образ Татьяны", "Крестьяне - герои некрасовских поэм" и др.) и одна - свободная ("Куда пойти учиться", "Мои увлечения" и т.д.). Здесь можно было легко разбежаться на три-четыре страницы, поведать о том, что вычитал из "внеклассного чтения", и вообще чувствовать себя свободной птицей. Мне, кажется, удавалось раскрыть тему, и Анна Георгиевна часто заставляла читать мой опус всему классу. Она же активно поддержала мои первые поэтические шаги в классной стенгазете.
На особо высоком месте стояла географичка Людмила Игнатьевна, которая в течение нескольких лет была нашим классным руководителем. Энергичная, красивая, молодая - старше нас совсем чуть-чуть, она была как "своя" - смешливая и бесшабашная. Предмет вела без блеска Софьи Саввишны, без пиетета Анны Георгиевны, но увлеченно и хлестко, так что по географическим картам мы смело бороздили моря и океаны, добираясь до самых затерянных уголков планеты. География - живая наука, какой школьник не интересовался ее горами, прериями, джунглями. Да еще когда об этих чудесах рассказывает такая веселая женщина. Мы были влюблены в географию, в учительницу и во всех великих путешественников. И в своем детском неведении не замечали, насколько при внешней беззаботности была несчастна наша географичка. Она была из поколения женщин, женихи которых остались на полях сражений. Только после окончания школы мы осознали, как трудно жилось им после войны.
ЛИЦЕЙСКИЕ ГОДЫ
После окончания семилетки я был переведен в школу № 151 на Соколе. Началась эра, которую условно можно назвать "лицеем". Заведовал оным Тимофей Хрисанфович Хрущев - умный, хозяйственный директор и откровенно слабый физик. Школа располагалась в только что отданном ей здании интерната для испанских детей, привезенных в СССР во время гражданской войны на их родине. По тем временам просто шикарная школа - с большим физкультурным залом (он же актовый - для комсомольских собраний и вечеров), просторными классами, кабинетами физики и химии, спортивной площадкой во дворе.
Особенно мне запомнилась учительница химии Любовь Ивановна Склянкина. И фамилия-то у нее "химическая". Любовь Ивановна была талантливым педагогом. Она приучала нас к научной точности, основанной на глубоком знании и въедливой аккуратности. Любовь Ивановна посоветовала мне в 10-м классе записаться в химкружок при МГУ. Это и определило выбор моего жизненного пути: я поступил в Московский механический институт и стал, правда, не химиком, но физиком-экспериментатором. Знания и взгляды, привитые Любовью Ивановной, - первые прочные камни моего научного фундамента.
Валентина Николаевна Панова - учитель литературы и русского языка. Серьезный вдумчивый педагог. Особой близости у нее с нами не возникало, хотя некоторое время она была классным руководителем. Этот человек раскрыл перед нами кладезь русской литературы - Пушкина, Толстого, Чехова, Горького. Она требовала, чтобы мы обязательно читали изучаемые произведения, а не урывочные сведения из учебников и хрестоматий. Честно сознаюсь, я мучился, заставляя себя читать все тома "Войны и мира". Величие этого произведения я тогда просто не способен был понять, но по всем персонажам романа давал исчерпывающие ответы. Глубокая любовь к русской и зарубежной классике - несомненная заслуга Валентины Николаевны. Я осознал это много лет спустя после окончания школы. Классическая литература на многие годы поставила для меня прочный заслон на пути развлекательного, по сути пустого, чтива.
Историк Алексей Иванович Купцов - человек "свой в доску". Никакого насилия над нами, учениками (во имя будущих благ), он не совершал, а просто грамотно и увлекательно вел свой предмет - от Средних веков до новейшей истории. Он был вспыльчивым и порой, когда его допекал шум в классе, на всю школу стучал классным журналом по столу, призывая нас стать наконец серьезными людьми. У другого преподавателя это действие вызвало бы еще более шумный восторг класса, а у Алексея Ивановича - мгновенную тишину. Мы улавливали все-таки, когда человек доходил до предела. Купцов был убежденным, не по указке, марксистом. Помню, как в октябре 1949 года совершенно не по теме урока он разъяснял нам величие победы революции в Китае и образования КНР. Тех, кто не увлекался "его историей", он органически не понимал, был к ним язвительно придирчив.
Дыся Абрамовна Метелица - учитель алгебры и завуч школы, заслуженный многоопытный педагог. Кстати, у нее в предвоенные годы учился и нынешний главный редактор журнала "Наука и жизнь"; тогда она преподавала математику в 149-й школе в том же поселке Сокол. Не могу не отдать ей дань уважения как преподавателю, но лично у меня сложились с ней непростые отношения. По алгебре я прекрасно успевал, был отличником и никаких проблем не имел, а вот по общественным делам, будучи комсоргом класса, конфликтовал, да так, что меня чуть не "вышибли" из школы. Однажды мы в знак протеста против "захвата" ею "пустых" уроков (когда болели другие учителя), которые хотели занять комсомольскими делами, подняли бунт, отказавшись всем классом ей отвечать. Все получили в журнале двойки.
Бунт, естественно, подавили, а меня, как главного зачинщика, на две недели отстранили от занятий. Пока "мое дело" решал РОНО, я катался на лыжах. Мама не осуждала меня строго и вела переговоры со школьной дирекцией. Опытный дипломат Тимофей Хрисанфович, любимая наша наставница Людмила Игнатьевна встали за меня. В результате педсовет принял соломоново решение - перевели "на исправление" в параллельный класс, туда, где я нашел своих истинных друзей.
Учительница немецкого языка Лина Петровна Йеппе, прибалтийская немка, учила нас своему любимому языку строго и планомерно. Мы не только разбирались в тонкостях запутанной немецкой грамматики с ее бесконечными Plusquamperfekt'ами, но и зубрили наизусть великих поэтов. Не у всех это выходило гладко, и отстающих Лина Петровна "дожимала" беспощадно, как немецкая самоходная пушка "пантера". В результате немецкая культура вошла в кровь большинства учеников бессмертными строками Шиллера и Гёте.
Не перечислить всех блестящих преподавателей этого моего "лицейского" периода. Искреннее спасибо и земной поклон учителям 151-й Московской средней школы образца 1948-1950 годов. Как и пушкинские лицеисты, мы не были пай-мальчиками и немало крови попортили нашим наставникам. Все выпускники двух десятых классов пошли учиться дальше: половина - в военные училища, половина - в гражданские вузы. Мы не достигли запредельных высот и не стали выдающимися личностями. Но отличными офицерами, цепкими дипломатами, грамотными инженерами и научными работниками стали все. Недавно, собравшись в очередной раз вместе, отметили 50-летний юбилей окончания школы, и первый тост был за наших незабываемых учителей - за их величайшее терпение, за искры знаний, брошенные в наши легкомысленные головы. За благородный труд по воспитанию наших душ.